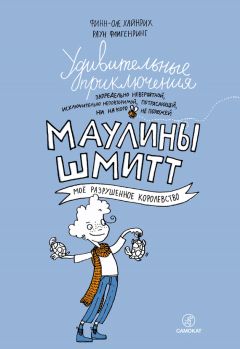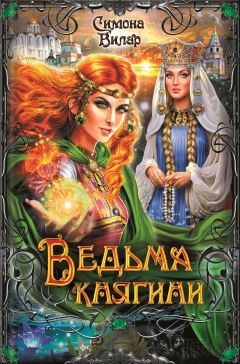Тирания мух - Мадруга Элайне Вилар
— Я не понимаю тебя. Первый шаг на пути к исцелению — контроль над своими эмоциями и избегание негативных чувств.
— Мы всегда были одни в школе. На улице. В зоопарке. Люди избегали нас. Из-за отца никто не хотел к нам приближаться. Из-за него у нас никогда не было друзей. Кому хочется дружить с ребенком истязателя?
— Не произноси этого слова!
— Я хочу знать.
— Правда? Тогда слушай меня внимательно и перестань повторять брехню, выдуманную врагами нашей страны. Ты что, не видишь весь вред, который нам причинили? Не видишь, что они сделали с папой после долгих лет его безупречной службы стране? Это недостойно, Калеб. Твой отец честно выполнял свою работу, он был настоящим героем на службе у истории. Почему он должен раскаиваться? Только ему известно, что он делал, и его совесть спокойна.
— А ты? Тебе тоже не в чем раскаиваться?
— Калеб, ты понимаешь, что делаешь? Ты понимаешь, что я не могу сказать, что люблю тебя, когда ты произносишь такие вещи?!
— Надеюсь, Калия нас всех убьет.
— Все, уходи. Убирайся! Сеанс окончен.
— И надеюсь, вас двоих она убьет первыми. Так мы с Касандрой сможем на это посмотреть. Хоть бы бабочки набились тебе в рот и ты задохнулась, мама.
— Пошел вон, мерзавец!
— И хоть бы ты умирала медленно. Очень медленно.
Ага. Должна признаться, приятно было посмотреть на забинтованную руку Калеба. Ну, я так думаю. На самом деле мне не хватило времени как следует насладиться видом опухших пальцев брата, которые символизировали победу моих предсказаний над его недоверием. Синдром Касандры, настоящее проклятие. И в то же время пиррова победа, делавшая мне честь. Точнее сказать, делавшая честь троянской царевне, чье имя я получила при рождении вместе с несчастливым даром предсказывать, хоть никто мне и не верил. Конечно, эта способность не имеет никакой божественной или мифической природы, в ней нет ничего сверхъестественного, окей? Я просто стараюсь все подмечать и делать выводы. Если мне что-то и удавалось в жизни, так это видеть и изучать реакции людей, а моя семья, из-за непосредственной доступности и родственной близости, оказалась золотым дном для исследований.
Я чувствую удовлетворение, когда мне удается предвосхитить события.
Какасандра превращается в Касандру — имя троянской царевны, и оно идет мне гораздо больше, потому что полно достоинства и избавляет от необходимости терпеть зловонную приставку.
Я узнала о перевязанной руке Калеба лишь спустя несколько часов после того, как отец на нее наступил. Разумеется, до меня доносились крики. Крик моего младшего братика. Звучит ужасно, правда? Даже Калия, всегда такая безразличная ко всему и сосредоточенная на своих рисунках, услышав крики Калеба, не смогла завершить эскиз крыльев бабочки монарх. То, что должно было стать анатомически совершенным изображением, сейчас выглядело как небрежно сделанный набросок, и Калия понимала это, однако не осмеливалась поправить. Всему виной биологические причины: при криках боли сородич инстинктивно готовится бежать или драться.
Спрятаться или атаковать — вот в чем вопрос, дорогой Шекспир.
На самом деле, ради точности или даже правдоподобности, я должна поправить свою предыдущую фразу: Калеб не кричал, правильнее было бы употребить другой глагол — выл. И папа тоже. Не могу сказать, чье преображение пугало больше. Калеба, всегда замкнутого в себе, который молил: папа, мне больно, папа, пожалуйста. Или отца, который размеренно повторял: я тебе покажу, как смеяться мне в лицо, отступник, в следующий раз ногти тебе вырву, даже на ногах.
Эти слова отца я восприняла так буквально, что не могла сдержать рвотных позывов.
Укусить или спрятаться — вот в чем вопрос, дорогой Шекспир.
Вскоре вой прекратился, и наступила тишина, что, если подумать, еще хуже, потому что по крикам можно определить источник боли, а теперь стало невозможно узнать, где поджидает опасность.
Я утешалась, принюхиваясь к собственной коже, на которой все еще сохранялся аромат старой ржавчины моей возлюбленной. Если что и может противостоять смерти, так это секс; если что и может перекрыть вой, так это запах предмета твоей любви. Он уже еле чувствовался, и я ненавидела себя за неспособность удержать то, что любила больше всего на свете.
Когда кто-нибудь возьмется писать историю фрустрации, в ней обязательно найдется место для Касандры и, очень возможно, для Калеба. Я не преувеличиваю — все обстоит именно так. Что же до Калеба, на следующее утро после его ночного воя я встретилась с ним на лестнице, точнее — столкнулась, так что это была непреднамеренная, абсолютно случайная встреча, которая вынудила нас посмотреть друг другу прямо в глаза. В его взгляде я прочла трагедию — маленькую трагедию ангела смерти. Теперь, когда мы все жили в заточении, ему не оставалось ничего другого, кроме как созерцать свою незавершенную работу. Ангел смерти, превратившийся в скульптора с перевязанной рукой, — не представляю, кто ее мог перевязать. Что же ему оставалось — почти ничего, лишь мечтать о лучших временах, когда вновь появится возможность выйти во внешний мир, в наш сад. Маленькая трагедия, никак не сравнимая по масштабу с моей собственной драмой, гораздо более очевидной и необратимой. Даже если принять во внимание, что моя возлюбленная неподвижна — интересно, кто-нибудь произнесет сейчас, что если это настоящая любовь, то твоя половинка тебя обязательно дождется, тем более что в этом случае предмету любви ничего другого не остается, — подумайте сами, разве меньше боль от разлуки, спрашиваю я вас, разве может быть более-менее веская причина для того, чтобы тот, кто любит, — единственный движущийся субъект в отношениях — был разлучен с объектом своей любви? Прочитайте последнее предложение с вопросительной интонацией или тоном отчаянного удивления и ответьте себе: да, есть, и эта причина — мой отец, не будем уходить в детали, окей? Это папина вина.
Мне не нужно было вновь заглядывать в глаза брату, чтобы удостовериться в том, что я поняла еще несколькими неделями раньше: у нас с Калебом общий враг.
И этим общим врагом был человек с медалями — отец, переставший заикаться и с каждым днем все более походящий на Усатого дедушку.
Известно, что заика не заслуживает доверия своего народа, но так же очевидно для меня и то, что недостоин его и человек с усами.
В нашей маленькой стране под названием дом началась революция.
Кузина, чьи черты уже постепенно стирались из памяти Калеба, неожиданно вновь заявила о себе. Сны, полные отчаяния. Он просыпался с ощущением, что дома не хватает воздуха, что их всех заперли, с ощущением клаустрофобии. А вдруг отцу взбредет в голову, что отныне нужно потреблять меньше воздуха, чтобы помочь развитию страны под названием дом. Или же, со всеобщего согласия и ко всеобщему удовольствию, он укажет на лишнего члена семьи с целью убрать его, чтобы воздуха, которого так не хватает, стало больше?
Во снах, вернее, в кошмарах Калеба Тунис всегда являлась в окружении немецких овчарок, ротвейлеров или доберманов, специально выдрессированных для того, чтобы чуять запах самки во время течки, то есть любой самки, — вполне возможный способ насилия над дочерьми врагов народа. Этот сон, этот кошмар постоянно повторялся с небольшими изменениями: Тунис, окруженная псами, держала в руках небольшой сверток. Ее груди превратились в два обвисших мешочка — ничего похожего на формы, о которых мечтал Калеб. Но не это внушало ужас — самым чудовищным был этот небольшой сверток, в котором кто-то сосал грудь и дышал, младенец с головой собаки — иногда овчарки, иногда ротвейлера, — недоношенный младенец в подгузниках, сделанных из обрезков девичьих трусиков, синих, красных, цвета фуксии. Если интересно, каково было маленькому уродцу в руках Тунис, сказать по правде — ему было удобно и тепло. Тунис словно протягивала этого маленького щеночка Калебу: он не твой, но станет тебе хорошим сыном, если ты его возьмешь, будет охранять дом и приносить тапки и газету.