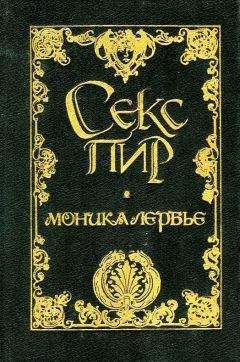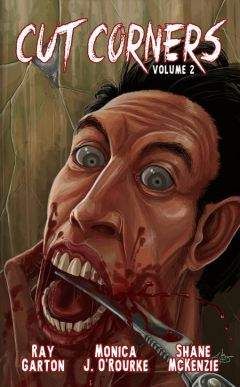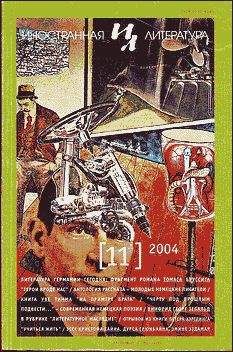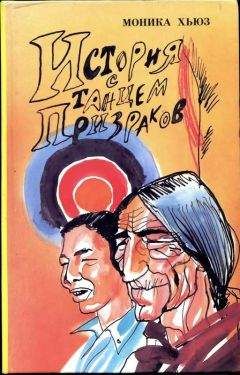Багаж - Хельфер Моника
В июле она послала Лоренца к своей сестре с настоятельной просьбой, чтоб та приехала и забрала ее к себе, речь идет, мол, о жизни и смерти. Лоренц пустился в путь утром, в четыре часа, и в полдень уже был у тетки. Дядя запряг лошадь, и вечером Мария уже была у сестры. В хороших руках. Мягко укутанная, горячим чаем напоенная. С кусочком шоколада на тарелке. Лоренц, Катарина, Генрих и Вальтер оставались дома одни. Мария родила на свет девочку. Там же она была и окрещена, без формальностей, что допускается в случае угрозы жизни младенцу. Крестила сестра Марии, потому что священник отказался. Нарекли девочку Маргарете. Через неделю Мария была уже дома.
Война шла уже третий год, и хорошо не было уже никому. Адъюнкт и его мать уже мало чем могли помочь. Собственно, вообще ничем. Яблоками летом. Вишнями, но вишни у Марии были и свои. Ему было так стыдно из-за этого, что он уже не смел показаться Марии на глаза. Она сама пришла к нему. Он спрятался, сделал вид, что его нет дома. После этого она уже не ходила в деревню. Однажды к ней в дверь постучались, снаружи стояли мужчина и женщина. У него шляпа была надвинута глубоко на лоб, у нее так же низко повязан платок, и поначалу она их не узнала, когда отодвинула занавеску на кухонном окошке. Она боялась, что ее снова обругают, обвинят, осыплют проклятиями, и не открыла. Села на пол в кухне, чтобы ее не было видно, если мужчина вдруг подсадит женщину к окну. Грете она прижала к себе и велела ей замереть, что вовсе и не требовалось, она и без того были тихая. Впоследствии оказалось, что то были доброжелатели, которые хотели только сказать Марии, что считают ее порядочной женщиной и не слушают подстрекательств священника.
Однажды священник спросил со своей церковной кафедры, а где же, мол, «багаж» — они ведь всегда сидели на последней скамье. Но не все в деревне находили хорошим то, что священник проповедовал со своей моралью. Какой-то мужчина — потом оказалось, что его никто не знал, — крикнул прямо посреди проповеди:
— Да хватит уже! Наслушались!
А второй, хотя и не кричал, но пробормотал, что лучше было бы священнику заткнуться. По крайней мере, Йозеф и Мария были свои, местные, а священник приехал незнамо откуда.
Они голодали. И было их теперь шестеро, не считая отца.
Маленькая Грете была простым ребенком. Плакала редко, беспорядка не учиняла. Росла у мамы на руках. Мама сажала ее себе на бедро, где та крепко цеплялась за нее, или брала к себе на колени, расстегивала вязаную кофту и потом застегивала ее за спиной и за головой ребенка.
— Это твой домик, — говорила ей.
Для Катарины она была вместо куклы. Грете позволяла делать с собой что угодно. Она ласково улыбалась и заглядывала в глаза своим братьям и сестре. Вальтер складывал из газеты наполеоновскую шляпу, надевал на нее и поправлял ей волосы. Генрих вырезал из длинной кровельной дранки посох с головой наверху, он был мастеровит в таких вещах, и вложил эту палку в ручку Грете. И она восседала с ней посреди кухонного стола, серьезная, тихая, нежная. А Катарина спросила у мамы, не одолжит ли она ей тот красивый красный отрез на платье, нет, она ничего не будет из него шить, а сделает для Грете королевскую мантию. Она обложила ребенка на кухонном столе подушками с трех сторон, это был трон. А сверху задрапировала красной тканью. Мария берегла этот отрез, чтобы когда-нибудь сшить из него платье. Но красивое платье себе не шьют, когда на столе ничего не бывает, кроме картошки и тюри из муки. Кроме того, отрез был подарком бургомистра, и об этом ей не хотелось думать.
— Ты наша королева, — приговаривала Катарина. Грете не было тогда и трех лет. — Скажи: «Я королева!»
Грете говорила:
— Королева.
— Скажи: «Королева Грете».
— Королева Грете.
— Она это снова сказала! — с ликованием кричала Катарина матери.
Моя мама была королевой Грете. Но она совершенно точно не хотела быть королевой, она не хотела быть заметной, хотела, наоборот, быть невидимой. Когда я думаю о ней, то всегда представляю ее лежащей в постели с книгой. Она лежит в гостиной на диване, утопая в пуховом одеяле как в облаке. Она была больна, она почти всегда была больна. Она то и дело лежала в больнице, потому что из нее удаляли какой-нибудь кусочек. И она все больше худела. В больнице мы ее не навещали, это было слишком далеко. Она ничего не готовила, кроме шоколадного пудинга с кусочком сливочного масла. Мы жили в доме отдыха для инвалидов войны, наш отец был директором этого дома. Он и сам был инвалид — отморозил ногу в России. Ехал там зимой в кузове грузовика. Мы, его семья, жили в доме отдыха бесплатно. Повариха готовила отдыхающим, а заодно и нам. Как господам.
Наша мама лежала, окутанная своим пуховым облаком, и читала книгу. Автором книги была Сигрид Унсет, и на обложке была ее фотография: женщина с косой, уложенной венком на голове. Выглядела она красивой, немного полноватой, но такими тогда были женщины, так говорила наша мать. Та тонкая книга начиналась с фразы: «Я была неверна своему мужу». И я эту фразу запомнила. Мама читала вслух, но мы мало чего понимали в действии романа. Моей сестре было девять лет, а мне семь. Вокруг нашей матери могло происходить что угодно, ей ничто не мешало, как будто она вообще отсутствовала.
В одном документальном материале я читаю: «23 октября 1956 года в Венгрии разразилось первое в Восточной Европе вооруженное восстание против советской власти и коммунизма. Вторжение советских танков моментально превратило это восстание в освободительную борьбу за национальную независимость».
Венгерские беженцы получали тогда приют в нашем доме отдыха для инвалидов войны. Все было переполнено, не было ни одного свободного стула, ни одной свободной кровати, а на иную кровать приходилось по целой семье, и они размещались на ней как придется. Использовалось каждое свободное местечко. На кухне тогда управлялись три поварихи. Валил пар от отварных макарон, разлетался брызгами жир. Кухонные девочки-помощницы чистили овощи и салат. Каждое утро к дому подъезжал грузовик, из него выгружали продукты и уносили в подвал. Мой отец стоял рядом и записывал в блокнот все, что поступило.
Наша семья, до этого просторно занимавшая пять комнат, теперь теснилась в двух, своей кухни у нас не было, еда поступала на кухонном лифте, оттуда мы ее забирали и ставили на свой стол. Еда эта не могла быть вкусной: наша мать говорила, что готовить на столько людей надо специально учиться, а наш персонал был временным. Я говорю «наш персонал», как будто он имел к нам какое-то отношение.
В коридорах сидели мужчины, женщины и дети, мячи летали туда и сюда. Мы с любопытством выглядывали из нашей двери, но выходить не решались. Все было чужое. Венгерские мужчины ходили в тренировочных штанах, и когда они сидели в коридоре, то казалось, что они ждут, когда начнется матч, в котором они должны играть. Стояла вонь нестираной одежды и сигаретного дыма. Мама страдала от этого. Она зажигала свечи и снова их гасила. Она раскладывала в сторонке на просушку еловые ветки, а когда они высыхали, подносила к ним спичку. Она любила запах как свежей, так и сгоревшей хвои.
Я нашла в своей шкатулке со старыми реликвиями фотографию — на фото я стою посередине между двумя другими школьницами, мы все трое в купальниках. Мы ровесницы, но я меньше всех ростом. То было время, когда наша мать подолгу лежала в больнице, и когда нас фотографировали, я наверняка думала о ней. Мы не знали, как там она, мы не знали, что она скоро умрет, и когда она умерла, мы не могли в это поверить. Чужие люди гладили нас по голове и говорили:
— Ах вы, четверо сироток!
Это было очень неприятно. Мы еще недавно навещали ее в больнице, и она выглядела оживленной, прямо-таки эйфоричной. Но потом ей стало плохо, и нас выпроводили из палаты. Теперь я знаю, что такое бывает от морфия.
В нашем классе собирали с каждого ученика по два пятьдесят на венок, для меня это было мучительным стыдом, я готова была выпрыгнуть из окна, чтобы только не знать этого. Лучше было бы мне тогда умереть и улететь вместе с ней на небо.