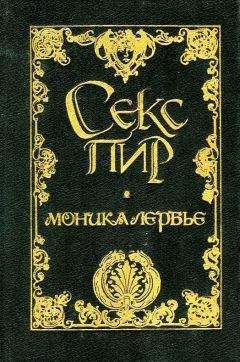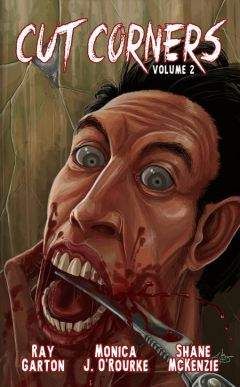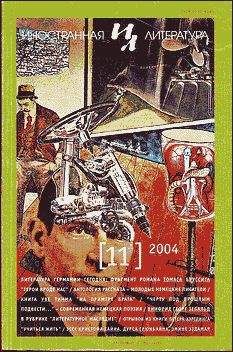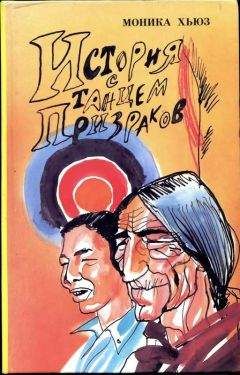Багаж - Хельфер Моника
Скоро стал виден живот. Вскоре уже каждый житель деревни имел случай хотя бы раз увидеть живот Марии Моосбруггер. Откуда взялся этот живот? Люди высчитывали. Время отпусков мужа было сочтено с точностью до часа. Учитывалось и состояние мужчины, пришедшего с фронта. Встречно подсчитывались и дни, благоприятные и неблагоприятные для зачатия. Добавлялось еще и то, и это. И результат выпадал не в пользу Марии.
Дважды приходил священник. Первый раз один, второй раз не один.
В первый раз он сказал:
— Почему ты никогда не приходишь исповедаться, Мария?
Она пожала плечами. Она не пригласила его присесть к кухонному столу. А священник полагал, что для духовного лица всегда зарезервировано место в каждом доме.
— Не хочешь ли ты исповедаться прямо сейчас? — спросил он.
— Прямо здесь, в кухне? — ответила она вопросом.
— Милость Господня простирается всюду.
— Нет, я не хочу исповедаться.
— И что, нет ничего, в чем ты хотела бы покаяться, Мария?
— А вы знаете, в чем я могла бы покаяться? — спросила она.
Стоп! Здесь я должна прерваться. Об этом разговоре между моей бабушкой и священником в семье упоминалось много раз. И у каждого наготове была своя версия, ведь никто не знал точно, что там было. Мой дядя Лоренц, например, утверждал, что его мать отчитала попа и поставила его на место. Я думаю, это было его предположение, потому что сам он на ее месте именно так бы и поступил: отчитал попа и поставил его на место. Он придерживался того же мнения, что и его отец: что все это духовенство есть лишнее, бесполезное звено человечества. Дядя Генрих рассказывал, что мать плакала, только плакала. Он вспоминал, что мама — он и взрослым называл Марию мамой, один из всех, остальные говорили о ней как о своей матери, — что мама в то время с утра до вечера только и делала, что плакала. Значит, плакала и тогда, когда явился священник. Он, Генрих, предполагает, что священник оценил ее слезы как признание вины. Тетя Катэ вспоминала, что священник, который остался у нее в памяти как особенно неприятный тип, раскричался на мать, призывал на ее голову силы преисподней и хотел принудить ее к признанию, что дитя у нее в животе зародилось от другого, не от отца. И тогда мать указала духовному лицу дорогу вон из дома. Отсюда и пошла от священника злая месть.
И еще кое-что рассказала тетя Катэ: что Вальтер, самый младший, ему как раз было в то время шесть лет, побежал вдогонку священнику и остановил его у источника, да, остановил его, потянул за его черную рясу и закричал на него так, что было слышно и в доме:
— Ты плохой! — кричал Вальтер на священника. — Ты будешь гореть в аду!
На следующий день священник снова объявился, на сей раз не один, а вместе с парнем, которому он приказал принести из сарая лестницу, влезть по ней и оторвать деревянное распятие, закрепленное у входной двери, поддев его ломиком. Мария в доме притаилась с детьми в темноте на своей супружеской кровати, все жались друг к другу, даже Лоренц заполз матери под бок, теперь и ему было страшно. И хотя они все вместе не так уж и стопроцентно верили в небо и во все, что там есть наверху, они все-таки видели сейчас опасность, исходящую оттуда, а не только те опасности, что были на земле.
— Не надо было тебе бежать за ним и говорить ему, что он будет гореть в аду, — шепотом сказал Генрих.
И Вальтер шепотом ответил:
— Но я же знаю, что он попадет в ад.
Мария прошептала:
— Никто из нас ничего не знает про ад.
— А я знаю, — настаивал на своем Вальтер.
Весть разлетелась быстро, и уже не было в деревне никого, кто не знал бы про Марию, про ребенка у нее в животе и про расчеты, которые выпадали не в ее пользу. Ходили злые пересуды. Многое припомнили «багажу». И делишки отца, про которые толком никто ничего не знал. И ненормальную красоту жены. И привилегии отца как солдата, потому что, во-первых, он был все еще жив, а во-вторых, уже дважды получал отпуск с фронта. И более чем заметные способности Лоренца в счете, которые затеняли даже самого учителя: якобы Лоренц мог в уме складывать трехзначные числа. В волшебство уже больше никто не верил, но и со счетов все это никак не сбросишь.
Стали расспрашивать бургомистра насчет «багажа». Но тот ничего не говорил. В конце концов перед войной он был тесно связан с Йозефом. Опять же, делишки. И то, что он делился с ними со своего стола, тоже было известно. И можно было усомниться в том, что он делал это просто из любви к ближнему. Может, он как-то зависел от Йозефа. Опять же, делишки. И пусть же наконец объяснит, что за делишки такие.
— На это я вам ничего не скажу, — заявил он.
— Почему же ничего?
— Потому что ничего, дурень ты этакий!
— Потому что, видать, много знаешь?
— Да и знал бы, не сказал, дурень ты этакий! Да что ж вы за свора такая! Просто клубок ядовитых змей! Вы все вместе не стоите одного плевка Йозефа!
Про то, что Вальтер погнался за священником и остановил его, тетя Катэ, к сожалению, рассказала мне только тогда, когда ее брата уже давно не было в живых. Я говорю «к сожалению», потому что уже не могла выразить моему дяде восхищения. Я люблю вспоминать его. Он был самый веселый из всего «багажа». Он утверждал, что женщины его любили и хотели, всё ему прощали, и он мог получить любую, какая приглянется. На мой вкус он не был красивым мужчиной. Может быть, с годами идеал меняется. Он был рослый, плечистый, с атлетической фигурой, хотя никаким спортом не занимался, с тонкой веснушчатой кожей, с рыжими волосами, со светлым пушком на груди, на руках и на тыльной стороне ладоней. Работал он не так много, как его братья, часто уходил в загул. В жены себе взял полную женщину с красивым лицом, которая вскоре еще растолстела. И разонравилась ему. У них было пятеро детей, жили в неоштукатуренном доме. Его угораздило влюбиться в женщину, которая выходила на панель. И это он находил идеальным. Ему никогда не приходилось перед ней отчитываться или оправдываться. А его законная жена завела себе любовника, который посещал ее часто и без всякого стеснения, он был торговым агентом, и ему было уютно с толстой женщиной. Это она научила меня танцевать фокстрот. Когда моему дяде Вальтеру прискучила проститутка, он передал ее дальше своему младшему брату Зеппу. И тот на ней женился.
Братья никогда не говорили между собой о прошлом. Это были мужчины, выросшие прямо из земли, и погибали они тогда, когда им больше нечего было ждать.
Катарина училась в школе с удвоенным рвением, с удвоенной быстротой и накрепко всё запоминала. Учитель ее уважал. Он говорил ее соученикам, что Катарина в конце концов не виновата, что ее мать потаскуха.
— Вот именно так, буквально, он и говорил, — рассказывала тетя Катэ, сплевывала и злобно шипела, но на слух это звучало не так, как изрыгают вековые проклятия, а так, будто сердится ребенок: — Вот ведь паршивый пес! Говорил это перед всем классом, что наша мама потаскуха! Надеюсь, его за это поджаривают там, внизу!
Она стояла перед классом, когда учитель так отзывался о ее матери. И не смела поднять глаза от пола. Одноклассники — мальчики и девочки — старались к ней даже не прикасаться. В гардеробе они вешали свои пальтишки подальше от ее куртки. У нее была одна подруга, которая ей тайком подсовывала кусочки сдобной плетенки и писала записочки, что хорошо к ней относится, но не может это показать.
Для Генриха тот год был последним в школе, он уже отучился. В классе он всегда держался тише воды и ниже травы, и то, что ему приходилось чувствовать на себе вражду от других, глубоко его ранило.
Мария таскала Вальтера на руках, хотя он был уже тяжелый и скоро должен был идти в школу, и прыгала с ним по кухне так, что в ящиках все громыхало — таким образом она надеялась устроить себе выкидыш, но опоздала с этим. Она была уверена, что родит девочку, потому что ее совсем не тошнило. Тошнота у нее была только с мальчиками. С Катариной у нее кружилась голова, но дурноты не было. Как будто выкидыш спас бы ее от злых слухов.