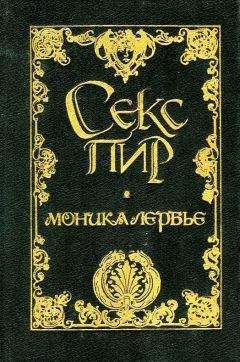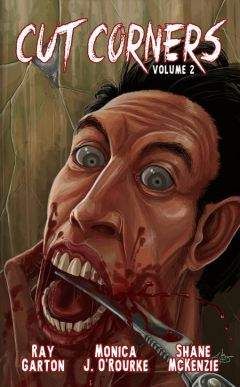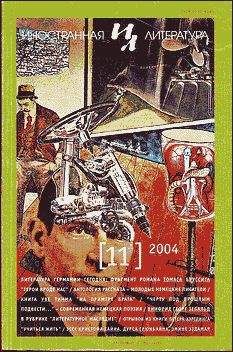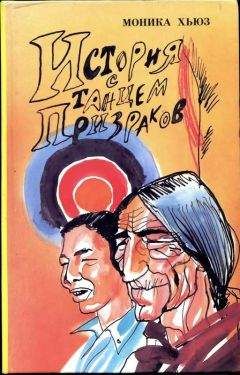Багаж - Хельфер Моника
На Рождество 1914 года Йозеф еще раз приехал домой, последний раз в ту войну. Внезапно. В деревне были солдаты, которые еще ни разу не получили побывку. И их жены были в отчаянии. Одна вообще не получила от своего мужа никакой весточки, ни одной. И даже не знала, живой ли он. Были солдаты, которые и за четыре года не заслужили отпуска, они ушли воевать за кайзера и монархию, а когда вернулись домой, кайзер был уже мертв, а монархия упразднена. А Йозеф получил уже второй отпуск за полгода. В целом считалось, что Йозеф и на войне как-то устроился со своими делишками. Но никто не мог бы сказать, что это могли быть за делишки такие, позволившие беднейшему крестьянину беднейшей деревушки во всей монархии обратить себе на пользу гигантскую военную машину кайзера.
Почтовый адъюнкт притопал по снегу, вызвал Марию и помахал ей письмом. Официальным сообщением жене солдата. Точнее говоря, это было не письмо, письмо бы он никогда не прочитал, заверил ее адъюнкт, этого ему не позволили бы приличия и долг, а эта бумага поступила открытой, без конверта. Йозефу, мол, по жеребьевке выпал отпуск на родину. Так и было написано. Напечатано на машинке. И закреплено печатью.
— Они что, разыгрывают это как в лотерее? — спросила Мария.
— Я тоже впервые слышу про такое, — сказал адъюнкт, запыхавшийся от подъема в гору, но счастливый. — Всегда узнаешь что-то новое. Как говорится. Но хорошие новости усваиваются быстро. Разве не так?
Мария все еще не могла поверить:
— Значит, чисто случайно?
— Так точно.
— Раз уж смерть случайна, пусть и отпуск выпадает по жребию?
— А меня что, должна мучить совесть, что я не на войне? — спросил адъюнкт.
— Вот уж точно нет, — сказала Мария. И после этого, преодолев стыд, добавила: — А можно попросить тебя об одном одолжении? — и отвернулась, чтобы не видеть, как кровь бросилась в лицо адъюнкту. — Хочешь зайти на минутку?
Она и не знала, что бы такое ему предложить. Потому что у нее ничего не было. Совсем ничего. С тех пор как бургомистр больше не приносил своих даров, запасов никаких не оставалось. Раз в неделю она посылала Генриха или Катарину в деревню, чтобы купить хлеба. Немного денег у нее еще оставалось. Случалось, что продавщица из лавки, Эльза, совала Катарине в рюкзак вторую ковригу хлеба. Над кухонным столом свисала на веревке с потолка шкурка от того сала, которое бургомистр оставил в последний раз. Об эту шкурку дети натирали корочку своего хлеба. Хотя бы ради вкуса.
Адъюнкт расслабил свой галстук и расстегнул воротник. В кухне было тепло. Дров на топливо было достаточно. Уж лучше голодно, чем холодно. Такой девиз был у «багажа», и этот девиз дожил и до меня.
— Пообещай мне, что никому не скажешь?
— Обещаю тебе, — ответил почтовый адъюнкт.
— Я отваживаюсь так говорить с тобой, — сказала она, взяла его руку и крепко ее сжала, — потому что считаю тебя порядочным мужчиной.
— Спасибо, — сказал адъюнкт. — Но есть наверняка и другие, не хуже меня.
— Нет, других нет.
— Тогда еще раз спасибо.
— Ты наверняка думаешь, что я это сейчас говорю лишь потому, что чего-то хочу от тебя.
— Нет, я так не думаю, — сказал адъюнкт.
— Я прошу у тебя милостыню.
Он все еще не понимал.
— Больше у меня ничего нет.
Все еще нет.
— Больше нечего есть.
Он все еще не понимал.
— Детям и мне — нам нечего есть, — сказала она, подавляя свое нетерпение. — У коров есть сено, у козы тоже. У нас же ничего нет. Собака добывает себе прокорм сама, не знаю, откуда, кошка тоже. У нас есть только молоко. И когда Йозеф на Рождество придет с войны, нам нечем будет его…
— Для меня это честь, — торопливо перебил ее адъюнкт. Это было благородно с его стороны. Он избавил ее от необходимости еще подробнее описывать положение дел.
На сей раз Йозеф пробыл всего два дня. А если точно по часам, то всего сутки с половиной. Он был изможденный, какой-то другой, чужой, маленький, робкий, усталый, худой, почти не говорил, к жене не ложился, не замечал, что она беременна. А она тоже не сказала. Она была на втором месяце. Он никого не хотел видеть, кроме семьи, так он сказал. Яркий свет причинял ему боль. Разве что свечкой подсветить, так-то будет лучше. Вопреки своим привычкам не стал тщательно мыться. Все казалось ему лишним и избыточным. Дорога домой, по его словам, была долгой, но добрался он хорошо. Ехал поездом. А больше ничего и не говорил. Дети держались от него на отдалении. Когда он снова уехал, казалось, что его тут и не было. Остались разве что отпечатки в снегу от его грубых солдатских сапог. Мария теперь с трудом могла припомнить, каким ее муж был до войны. Это казалось ей плохим знаком.
Но в сочельник, вечером 24-го, у них на столе было жаркое. Свиное жаркое. А к нему картофель и квашеная капуста. И бутылка вина. И сушеные груши. Все от адъюнкта. Мария благодарила его со слезами. Они потекли у нее, как у артистки на сцене. Как по команде. Об этом она когда-то читала. И это выражение запомнила. Как по команде. Они с сестрой подростками упражнялись в этом. И у сестры никогда не получалось. А у Марии получалось. У сестры все кончалось судорожным смехом. Мария припомнила это, когда адъюнкт явился с санками, которые тянул за собой на веревке через плечо. Санки были нагружены мешочками, полными добра. Сверху это добро было накрыто холстиной, чтобы никто не видел, что там. Она подала ему руку и долго не отнимала ее, твердо глядя ему в глаза и отдав слезам приказ течь, и они потекли. Тут и глаза доброго человека увлажнились слезами. Лучшей благодарности для него и быть не могло. Слезы Марии были самым лучшим рождественским подарком.
Йозеф и на этот раз привез денег, он отдал их Марии и велел их сберечь. Она сшила для каждого в семье по льняному мешочку и распределила по ним деньги, отцу досталось больше всего, а детям по возрасту. Для себя она ничего не хотела. Эти мешочки она положила под рождественскую елку. Ее срубил в лесу Генрих. Верхушка упиралась в потолок. На ветках висели фигурки, вырезанные из бумаги, которые дети с Марией вечерами раскрашивали цветными карандашами. Карандаши Катарина одолжила у школьной подруги. У нее самой был только синий карандаш. Зажгли шесть свечей — по одной на каждого члена семьи.
— Красиво, — сказал Йозеф. — Очень красиво. У нас тоже поставили елку. Почти такую же красивую.
Мария не расспрашивала.
Когда Йозеф снова уехал, Мария спрятала мешочки с деньгами под доской пола. А сверху на нее поставила елку.
И еще одно, важное! Она испекла сладкий пирог для святого вечера, ведь адъюнкт привез и сахар, и муку. И немного дрожжей с рождественским приветом от своей матери. И горстку изюма. И сливочное масло.
Они хотели все вместе пойти к заутрене — Йозеф, Мария, Генрих, Катарина, Лоренц и Вальтер, — но вернулись в дом, слишком много нападало снега, а в сочельник, 24-го, плужный снегоочиститель по деревне не ходил, по крайней мере, не добрался до их окраины, где кончалась долина. Пение под елкой далось им трудно, потому что ни Катарина, ни Генрих, а уж тем более Лоренц не знали слов песни «Тихая ночь, святая ночь», один только Вальтер знал их наизусть. Йозеф стоял, опустив руки и сцепив перед собой ладони. Как он обычно стоял в церкви. И по нему не было видно, о чем он думает. Вальтер играл с младенцем-Иисусом из гипса, фигурка упала на пол и разбилась. И в этом Мария тоже увидела плохой знак.
На прощание супруги обнялись. Но Мария не набралась смелости сказать мужу, что беременна. Она написала ему об этом в письме на фронт. Он написал в ответ, что вряд ли ему еще раз дадут отпуск. И что он рад ребенку. И что его товарищи выставили по этому случаю шнапс и поздравили его. И если родится мальчик, он хотел бы, чтоб его назвали Йозефом, как отца.
До окончания войны отец больше не был дома. Изредка адъюнкт приносил письмо от него. И тогда Мария отдавала ему свое письмо на фронт. Письма от Йозефа редко были длиннее четырех строк. Что у него все хорошо. Что ей не надо за него беспокоиться. И как дела у детей. И что он ждет не дождется, когда же кончится война и они снова станут полной семьей. Что у кайзера дела обстоят тоже хорошо. Об этом писалось в каждом письме. Это означало, что солдаты обязаны были упоминать это. А если не напишут, то получат взбучку. Отвечала она так же коротко.