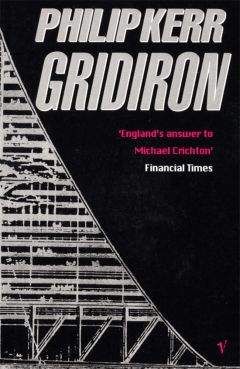Арман Лану - Свидание в Брюгге
— А из тебя вышел бы неплохой знаменосец ветеранов шестьсот шестьдесят шестого пехотного полка.
— Кретин!
— Вот проходят валлонцы, а вот альпийские стрелки! Конечно, рука в кожаной перчатке выглядит не так эффектно, во время всяких процессий, как деревянная нога, но тоже впечатляюще!
— Ты безнадежно глуп! Я говорю серьезно. Мне казалось смешным, что ветераны этой войны делают то же самое. Уж их я никак не мог оправдать. Они же сами потешались над своими отцами, пока не наступил тридцать девятый год. Но, оказывается, и я не могу забыть про войну. Проклятие какое-то! Она все время напоминает о себе, и даже слишком сильно напоминает!
— Я тоже не могу забыть маки, — сказал Оливье.
Его бесшабашность как рукой сняло. Ему снова виделась розовая заря над зелеными лугами Дордони. Он тряхнул головой.
— А, дьявол! Нельзя же все-таки всю свою жизнь прожить с мыслями о войне!
Он налил себе еще чашку чая и залпом выпил ее.
За перегородкой послышался лепет Домино: она только что проснулась. Напряжение Робера спало. Голос дочери оказывал на него магическое действие.
— Ты пойдешь сейчас со мной к больным?
— Да.
— Ты ведь, в сущности, ничего и не видел! Я дам тебе почитать одну-две книжонки по психиатрии. Правда, вряд ли ты там что поймешь. Нужно, по крайней мере, лет десять повариться в этом котле, чтобы в них разобраться и чтобы увидеть, какая там накручена галиматья, а действительность-то все равно ускользнула, и осталось лишь словесное трюкачество, одним словом, мюзик-холл от науки, а дело не продвинулось ни на шаг.
— Охотно прочту, — сказал Робер.
Постояв с минуту в нерешительности, он кивнул на свою больную руку.
— Ты не помог бы мне, а то я с ней проканителюсь, а к Жюльетте мне сейчас не хочется обращаться.
— Она все еще не в духе?
— Угу. Она читает Историю О. Это ты ей подсунул?
— Скажешь тоже! Просто у них какая-то удивительная способность натыкаться именно на то, чего они не хотели бы замечать. Жюльетта ее у меня выкрала! И не дай бог, если она дочитает ее до конца — мне придется распрощаться с жизнью, потому что я не знаю другой такой книги, которая бы так обнажала чувства женщины и тайную ненависть, какую они питают к мужчинам. По сравнению с ней Маркиз де Сад — просто детские забавы. Не думаю, чтобы она помогла ей избавиться от мизантропии. Давай-ка свою руку!
Робер протянул раненую руку. Оливье осмотрел ее.
— Ты никогда не говорил мне, как все случилось.
— Я боюсь возвращаться к войне. Осколок снаряда попал в руку и задел нерв. Июнь сорокового года.
Мускулы предплечья напряглись. Робер повертел рукой в руке Оливье, но не почувствовал дружеской теплоты, зато Оливье почувствовал, как безжизненна рука друга.
— Она начала сохнуть, тогда я стал заниматься специальными упражнениями и выжал из нее максимум, но мышцы уже атрофировались, и она не сгибается в локте.
Он говорил о своей руке, как говорят о нерадивом жильце; Оливье заметил, как по руке Робера пробежал нервный ток и от напряжения воли, пытавшейся преодолеть барьер, дрогнуло еще сильнее предплечье, но кисти движение не передалось. Оливье ловко палец за пальцем облек руку Робера в плотную кожаную перчатку, и в перчатке она выглядела мужественнее, чем обычная, ничем не защищенная рука. Робер не случайно выбрал именно такую перчатку, чтобы прикрыть свое увечье, — из плотной мягкой кожи глубокого черного цвета; он позволил себе малую толику кокетства. У запястья Оливье стянул перчатку ремешком, который играл роль своего рода упора.
— А мне нога не дает покоя, — сказал Оливье. — В свое время рану как следует не залечили, пришлось поставить серебряный протез… В общем, только хирургия и стоит чего-то, так-то, старина.
— А я и не знал, — протянул Робер.
— Ну вот теперь знаешь, ты и Лидия, — больше никто. Моих милых подружек я, конечно, ни во что не посвящаю. Да им и наплевать.
Как и накануне, Оливье надел сандалии и пальто, помог влезть в пальто Роберу. И хотя Робер не выносил подобного рода услуг, от Оливье он принял ее без стеснения.
Прежде чем уйти с Дю Руа, который оставил свою комнату в полном беспорядке, Робер зашел к себе, поцеловал в лоб жену, но та, воплощенный протест, даже не подняла головы от книги. Он схватил Домино и, попридержав больной рукой, здоровой подбросил ее в воздух. И, напевая «яву», щека к щеке, закружился с ней по комнате. Девочка закрыла глаза и замурлыкала от удовольствия.
— Моя спасительница, — сказал Робер другу, принимая к себе дочь, а та настойчиво требовала: «Папа, еще!..»
У Оливье был достаточно наметанный глаз, он моментально сообразил, каково соотношение чувств, составляющих эмоциональное ядро семьи Друэн, и вздохнул: у него такая же история, только что нет ребенка.
— Вся беда в том, — попытался объяснить Оливье, когда они уже выходили, — что мужчина и женщина слишком по-разному устроены, чтобы жить вместе, хотя они могут любить друг друга или почти любить. Тут с самого начала произошло какое-то недоразумение.
— А если они еще пережили войну, — сказал Робер, — то дела совсем плохи.
Глава IX
Резкий солнечный свет, высекая искры на снегу, покрывал белым блеском матовый кирпич корпусов. От соприкосновения с природой Роберу стало легко и радостно. Теперь весь этот нереальный Марьякерке прекрасно вписывался в реальный сверкающий пейзаж морозного утра. Деревья больше не пугали внушительностью размеров, дома — открытой враждебностью, а расстояния между ними — неизмеримостью. Город потерял в своей загадочности, зато выиграл в стройности. Бросалась в глаза чистота линий, свойственная старым конструкциям. На одной из стен, перечеркнутой буквой S из железа, изъеденного ржавчиной, Робер увидел почти совсем стершиеся, отстоявшие далеко друг от друга цифры:
1 6 2 0
Прошли мимо сестры из монастыря Сент-Гюдюль, у которых зябко подрагивали на ветру рога чепцов. Монахини тихонько переговаривались на фламандском языке. При входе в корпус, где лежал Ван Вельде, начался обычный ритуал: звонки, скрежет замков, скрип дверей; на сей раз им открыл другой санитар.
Солнечный свет, заливавший комнаты, умерял сияние фаянса и красок на картинах. При ярком свете, еще более ярком от блеска снега, бросавшего блики на высокие потолки с лепниной, лицо Эгпарса казалось более значительным, более выразительным — оно притягивало к себе. Теперь вы могли точно сказать, что у этого человека, прятавшегося за огромными выпуклыми очками, румянец во всю щеку, отчетливее выступали еще вчера не замеченные штришки: темно-красный нарост на коже, красные прожилки на носу, воспаленные веки — признак возможного конъюнктивита — и широкие ноздри, подчеркивавшие выражение доброты.
Подобно пейзажу и окружавшей Эгпарса обстановке, его облик освободился от загадочной неопределенности и оказался очень близким неумолимому реализму фламандских портретистов.
Все было не так, как вчера, город наполняла музыка, тихая и нежная, словно плеск волны. Есть на радио такая передача, когда умолкает одна мелодия, а на нее наплывает другая. И появился совсем земной и характерный запах — запах эфира.
Эгпарс встретил их в радостном, бодром настроении.
— Прекрасное утро, не правда ли? Настоящее рождественское. Снег и солнце. А вы бывали когда-нибудь в долине Мезы, мосье Друэн?
— Разумеется, там живописнее — холмы, пригорки.
— Да, а у нас бугорка не встретишь.
Робер промолчал: действительно, места там были красивые, особенно от Живе до Льежа, но он хранил грустную память о них: вдоль Мезы он прошел не как победитель — летом сорокового года, снискавшим себе столь не завидную славу.
Оливье взял кипу больничных карточек и пролистал их. Главврач вернулся к больному, которого он осматривал до их прихода, — здоровенный детина, череп словно наскоро выдолблен долотом и бульдожья челюсть, глаза из-под насупленных бровей смотрят не то тревожно, не то печально.
— Встаньте, мосье.
Эгпарс повторил просьбу по-фламандски.
Больной поднялся, сделал несколько шагов, круто повернул обратно и снова уселся на табурет. Вернее, придавил его собою. Могучий, с сильным и добротно скроенным телом деревенский парень, которому любая работа по плечу.
— Ну, ты вполне здоров, — сказал Эгпарс, без церемоний перейдя на «ты». — Можешь возвращаться домой.
— Ньет, дохтор, ньет! — Парень замотал головой, придя в ужас от такой перспективы.
Друэна удивила его реакция. Главврач повторил дружелюбно:
— Поверь мне, ты здоров.
Руки больного безвольно упали, словно не выдержав собственной огромной силищи, пропадающей втуне. Эгпарс вдруг почувствовал бесконечную усталость и, снова перейдя на «вы», спросил: