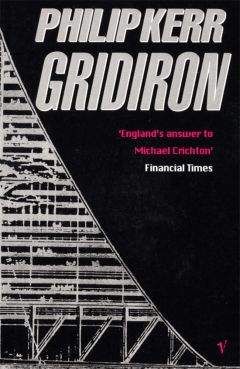Арман Лану - Свидание в Брюгге
Сейчас речь шла о всей его жизни, его единственной жизни, вернее, той ее части, которой он мог сознательно управлять настолько, насколько это в его человеческих возможностях. И Марьякерке, который поначалу оборачивался для него обещанием отдыха, покоя, разрядки, теперь повернулся к нему другой стороной. Придется еще раз пересмотреть свою жизнь и выйти отсюда, куда он попал, вероятно, все-таки случайно, иным человеком.
Робер целиком отдался этому двойственному состоянию, не пытаясь определить его словами и будучи уверенным, что внутреннее чутье его не обманывает.
Розы распускаются под небом. Пикардии,
И разносит ветер сладкий аромат.
Он выйдет отсюда обновленным: это возвещала мелодия, исполняемая оркестровым ансамблем, в котором аккордеон и саксофон изо всех сил старались перещеголять друг друга, соревнуясь в прочувствованности исполнения.
Незамысловатая песенка проделала длинный путь.
Ее пел отец Робера своему маленькому сыну, а когда отец вернулся с войны в двадцатом году и на нем был голубой (в прошлом голубой, голубой далекого прошлого) мундир сержанта пехоты первой мировой войны, он пел ее матери, шевеля пышными усами:
И приходит апрель, мягким солнцем согретый…
И желаннее вас никого не найти…
С тех пор романс все время сопровождал Робера и вьюном бежал по его жизни. Потом Робер узнал, что эти куплеты превратились в эстрадную песенку для влюбленных, совершенно безразличных к пуалю четырнадцатого года, а эти самые пуалю и томми во все горло распевали знаменитые куплеты на всех пыльных дорогах войны, на воде и на суше, дорогах смерти, дорогах Пикардии и Фландрии, Бапома и Соммы. Эта песня целого поколения изверившихся, отчаявшихся людей связывалась для него прежде всего с отцом, которого унесло время спустя несколько лет после окончания войны, и память мальчика запечатлела навеки высокого печального солдата в небесно-голубом мундире.
Пришел покой, и незатейливые куплеты, некогда распеваемые солдатами, превратились в романс мирных дней, он стал спутником Робера в его первых поездках. Робер даже танцевал под эту мелодию, но молодые женщины, его партнерши, — тогда он еще обнимал их тонкие талии правой рукой, — не могли взять в толк, отчего это Робер Друэн вдруг мрачнеет и не радуется обвивавшим его горячим рукам.
Эта невинная мелодия, неожиданно ставшая песнопением самой судьбы, обросла символами, превратившись в узел обнаженных чувств, клубок наэлектризованных нервов, сгусток всех болей. Особенно острых там, где гнездились тоска и мысль о невозвратимости утрат.
Иногда, прижимая к себе своих беззаботных партнерш, он думал: «Я топчу сердце моего отца». Нет, так он думал уже потом, когда восстанавливал в памяти все. А тогда он думал скорее, как чувствующий за собой вину ребенок: «Я топчу сердце бедного папы. Мой несравненный лазурно-голубой папочка, он не будет больше щекотать меня своими усами. Папа, папа, прости меня!..» — «Ничего, мой мальчик, — откликался голубой призрак. — Танцуй себе на здоровье, сынок. Ты танцуешь за меня». — «Да, папа, это правда?» — «Да, сынок, да, танцуй». — «Хорошо, папа».
Но сейчас, в кабинете главного врача, — здесь стояла такая плотная духота, что ее можно было резать ножом, — Робер, сколько ни силился, не мог вспомнить ни одного женского лица, ни одной из тех девиц, с которыми он танцевал под звуки Роз Пикардии.
Пикардия, Пикардия, песнь моего истерзанного сердца. А эти женщины. Да у них и не было лиц. Только у отца было лицо. Папа.
У него запершило в горле. Здесь слишком жарко.
Он поймал взгляд Оливье и отвернулся. Оливье, только не такой, как сейчас, а чуть помоложе, казался Роберу вылитым портретом его отца, каким того сохранила память Робера. Вот и отец пришел на свидание с Марьякерке.
И потом песня всюду следовала за Робером. В тысяча девятьсот тридцать девятом году она опять вошла в моду. В плену у него оказалась пластинка с этой песней, и он без конца проигрывал ее. А вернувшись во Францию, снова встретился с ней, правда, теперь мелодию синкопировали, появились разные ее варианты, а все-таки это была та же прелестная песенка, немного мелодраматичная, утешающая обреченного на смерть.
Каждый раз, когда Роберу приходилось выступать по радио или по телевидению с рассказами о войне, чего он терпеть не мог, он непременно требовал, чтобы в качестве музыкального фона ему давали Розы Пикардии…
И время, крыльями взмахнув,
Умчало годы навсегда…
Автору радио-, а потом телепередач, Роберу Друэну и в голову не приходило, что он вливал яд и в другие сердца и поднимал целые сонмища теней по всей старой матушке-Европе, некогда зажатой в тисках отчаяния Пикардийских роз и Лили Марлен, — обе песни, завербованные одна голубым цветом, другая — хаки, выражали извечное отчаяние солдата.
— Тебе неважно? — спросил Оливье.
— Да. Проклятая мелодия.
Глаза!.. У Оливье были одинаковые с «папой» глаза, может, потому, что Робер смотрел на них сквозь пелену слез, сквозь маленькие, не расплескавшиеся озерца.
— Один парень пел эту песенку в маки! — сказал Оливье. — В Дордони. Его потом расстреляли немцы.
Музыка свела в одну точку две параллельные дороги: странную войну и Сопротивление, действующую армию и маки, лагерь военнопленных и концентрационный лагерь.
Они слушали опустив голову; мелодия все ширилась, изувеченная приукрашиваниями, недостойными этого откровения судьбы.
Робер облегченно вздохнул, когда заиграл наконец голландский оркестр.
Однако уже все, что вызвала в нем музыка, куда-то ушло: достоверность этого мистического свидания, необходимость выбора иного пути — все это, еще мгновение назад столь очевидное, теперь исчезло: его поймали, проглотили и перемололи сторожевые псы глубин человеческого «я», тайные труженики подсознания, черно-красная армия, кинувшаяся заделывать пробоины в корпусе корабля, прекрасного живого корабля, носящего имя «Робер Друэн», на который внезапно обрушился ураган в открытом море Остенде.
Эгпарс ничего не заметил. Он продолжал атаку на больного.
— Так, значит, нет, вы не хотите?
— Нет, дохтор, нет.
— Мочь и хотеть. — Оливье спешил на помощь другу и переменил тему разговора. — Вся психиатрия держится на этих столпах — двух глаголах. Words, Words, Words![9]
Парень водрузил было на обычное место свою коричневую фуражку с наушниками, но потом машинально стянул ее, чтобы попрощаться с главврачом: тот пожал ему руку. Он обменялся рукопожатием с Оливье, протянул руку Роберу. Но не сразу понял его жест: ему подали левую руку, а правую, в перчатке, убрали. Он неловко тоже протянул левую. Его рука была тяжелая, сильная и немного влажная. Рука как рука, гораздо более нормальная, чем у Хоотена — директора-управляющего.
Крестьянин наконец приладил свою фуражку и вышел.
Переваливаясь с боку на бок, в такт скачущим звукам сопровождавшей его музыки, он зашагал по бесконечно длинному коридору, его фигура становилась все меньше и меньше, пока совсем не скрылась из виду.
— Сколько рук за день приходится вам пожимать? — поинтересовался Оливье.
— Около четырехсот. Это тоже входит в курс лечения. И называть их «мосье» — тоже. И если возможно — up имени. С этим я говорил на «ты», чтобы хоть как-то расшевелить его, но — увы!
— Какой-то парадокс! Если б мне пришлось распределять роли между статистами, окажись он таковым, он бы у меня изображал человека волевого, жесткого: вы только вспомните этот подбородок, эту мощную челюсть! Сущая горилла!
Эгпарс рассмеялся. Мысль показалась ему забавной. И почти весело он сказал:
— Пойдемте с нами, мосье Друэн. Посмотрите, как можно пожать четыреста рук за одно только утро!
Глава X
Они двинулись дальше. Впереди Эгпарс, не расставшийся со своим ратиновым пальто, за ним — Оливье и Робер в больничных халатах, на Оливье — не очень чистый, с пятнами от лекарств, на Робере — совсем новый и туго накрахмаленный. Перед ними, как в сказке, распахивались двери просторных зал. Несколько раз на глаза Роберу попался плакат — осанна социальному перевоспитанию, — приглашающий больных приобретать специальности рабочих.
Под стать тому, что висит во французских жандармериях: Записывайтесь на службу в колониальные войска! Общество придумывало способы возместить затраты.
Робер готовил себя к разным ужасам, а поразила его бюрократическая упорядоченность во всем. Врачи и младший персонал относились друг к другу с полным безразличием, как в армии офицеры и подчиненные, но внешне — тепло, даже сердечно. Все та же казарма. Под высокими потолками старинного монастыря устроились чиновники, обслуживающие болезнь. Они очень подходили этим помещениям, невыносимо душным, с запахом фенола, эфира и кухни, — расстегнутые воротнички, чистые, но уже много раз надеванные рубашки, застиранные халаты.