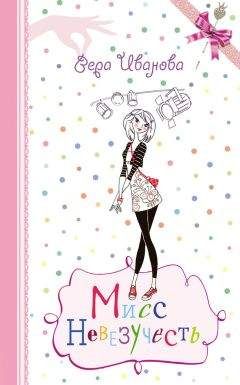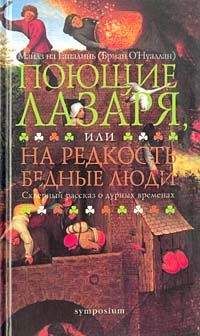Томас Эспедал - Вопреки искусству
Я прочел все книги Поля Борума и Ингер Кристенсен и множество книг Клауса Хоека. Я читал Серена Улрика Томсена и Микаэля Струнге, Ф. П. Джэка и Пию Тафдруп, я прочел Терье Драгсета, и поэзия изменила мой язык, мне захотелось писать романы словно стихи. Мне хотелось так много, а умел я так мало. Однажды в начале апреля Линда села за мой письменный стол. Она тепло оделась, а на голове у нее была шапка, словно Линда собралась в дальнюю дорогу. Похоже, она нервничала. Она переезжает, подумал я, она нашла квартиру. «Эта твоя книга, — начала Линда, — твоя дурацкая книжка, там все неправильно и сплошное вранье, ты постоянно лжешь и передергиваешь факты! Твоя книга — подделка! — закричала она. — Когда я ее читаю, мне делается плохо, и это все ты виноват, — прошипела она, — перепиши ее заново! Я требую, — сказала она, — требую, чтобы ты все переписал, чтобы все было правильно, без вранья, по-настоящему». — «Мы же договорились, что ты не будешь рыться в моих бумагах», — сказал я. «Плевать мне на договор, — ответила она, — ты пишешь обо мне, значит, это моя книга, я тебе отдала ее, поэтому написать ее ты должен правильно. Это же важно, неужели тебе не ясно?» — кричала она. «Это роман», — сказал я. «Я не идиотка! Я прекрасно знаю, что это роман, но ты пишешь неправду, роман твой — фальшивка! В нем я глупее, чем в жизни, слабее, чем в жизни! Я в нем ненастоящая, мы оба ненастоящие, хуже, чем на самом деле, а если б это был хороший роман, ты бы сделал нас лучше!»
Лучи солнца осветили ее лицо. Вытащив из сумки темные очки, она надела их и проговорила: «Ты меня не знаешь».
«Я никогда ни с кем не встречалась. У меня не было парня, я никогда никого не любила. Я всегда была одна, — сказала она, — но я не хотела оставаться одна, мне хотелось, чтобы у меня появился парень, хотелось встречаться с кем-нибудь. Может, я хотела этого слишком сильно, мне так и не встретился тот, кого я любила бы больше себя, полюбила бы настолько, что захотела быть с ним. Я тебе все это рассказываю, потому что я переезжаю. Когда ты появился вдруг на пороге, мне показалось, что мы с тобой похожи. И я подумала — почему бы не попытаться, не дать тебе шанс. Мне казалось, что мы подходим друг другу, но я больше не могу здесь жить, если ты так пишешь, ты разрушаешь все, что касается нас». Она прижала указательный палец к нижней губе. И в этот миг я представил, как она встанет и выйдет из комнаты. Я вскочил и хотел броситься к ней, удержать ее. Мне хотелось обнять ее, заняться с ней любовью, хотелось жить вместе с ней. Я на все был готов, чтобы удержать ее, но я лишь стоял столбом, не в силах шевельнуть рукой. Руки мои будто парализовало от какой-то странной уверенности: она должна уехать, так надо. В моем романе я уже написал об этом: она быстро выходит из комнаты, а я стою, не в силах шевельнуть рукой.
Я остался один в комнате номер 452, и тесная комнатка оказалась вдруг слишком просторной, мне было плохо там, я хотел переселиться в другую комнату, в другой корпус, на другой этаж, но у меня не получилось, и я остался жить в ней. Год назад я ездил в Данию с лекциями, тогда на Центральном вокзале в Копенгагене я сел в электричку до Рёдовре, а когда вышел из нее, то никак не мог вспомнить, куда свернуть — направо или налево. Потом я все же отыскал подземный переход к корпусам общежитий, выстроившимся за торговым центром. В каком же корпусе я жил? Я побродил по Ребек Сёпарку и в конце концов отыскал и блок, и комнату номер 452. Кто-то, видимо, колотил по двери ногами и сильно ее покорежил. Я долго стоял и смотрел на разбитую дверь, но ее вид не вызвал у меня никаких чувств — ни боли, ни радости, лишь недоумение. Неужели я действительно тут жил? Я в любой момент мог сесть на электричку до города и зайти к Линде в магазин. Я мог сказать, что сожалею, что готов ради нее на все, что перепишу книгу как ей того захочется, мог попросить ее вернуться, мог бы умолять ее. Мы могли бы вместе переехать куда-нибудь, в квартиру побольше, чтобы там было несколько комнат, я мог попросить ее, но не стал. Я продолжал один жить в комнате, где мне было плохо. И об этой грусти, этой почти невыносимой тоске, этой ужасной боли я сейчас совсем забыл, она словно шрам от затянувшейся раны, шрам зарубцевался и исчез, а ведь в свое время казалось, будто боли не вынести, однако вот уже и травма затерялась среди других шрамов, более серьезных, и, возможно, именно благодаря той боли мне удалось написать роман.
Роман издали спустя два года, в сентябре, мне прислали книги по почте. Я переписывал его четыре раза, перепечатывал на машинке, страницу за страницей. Я написал больше тысячи страниц, вычеркивал и дополнял, исправлял и переписывал. Ни над одной книгой я не работал больше, чем над этой. Первый экземпляр — я забрал его на почте в Рёдовре. Развернув бумагу, я положил книгу в карман, сел в электричку до Копенгагена и побрел по городу с книгой в кармане. Я стал писателем. Нет, писателем я еще не был, но, гуляя по Копенгагену, я говорил себе, что я писатель, доказательство этого лежало у меня в кармане, мой роман, конечно же, это ничего не доказывало, но в тот день, в первый день с первой книгой в кармане, я был писателем.
Я шатался по Копенгагену и вел себя, как полагается писателю, как, по моему мнению, ведут себя писатели. По вечерам я сидел в кафе «Дан Турелль», пил пиво и курил, потом шел в кафе «Соммерско», после — в бар «Бо би», а оттуда уходил в бар «У Энди», где просиживал до закрытия, ночь за ночью, утро за утром. Пришло время возвращаться домой. Я доехал на автобусе до Рёдовре, сложил свои пожитки в две коробки и отправил их поездом в Берген.
Я переехал из Рёдовре к Эли, в квартиру на Киркегатен. Всего несколько дней назад у меня почти ничего не было, а теперь вдруг появилось почти всё — большая гостиная, а в ней обеденный стол и шесть стульев, два дивана и журнальный столик, лампы и книжная полка. У нас была просторная спальня с большой двуспальной кроватью и белым ковром с длинным ворсом. У нас была посудомоечная машинка, холодильник и совершенно новая плита, а из кухонного окна открывался вид на город и море. Из спальни была дверь в мой маленький кабинет. Там я часами просиживал в полудреме. Там я просиживал часами, и у меня ничего не выходило, ни единственной приличной страницы, ни одного нормального предложения, я не мог подобрать верных слов, они просто не шли мне на ум. Я прожил на Киркегатен всего несколько дней, и моя работа остановилась, писать я больше не мог. Я придумывал всяческие уловки: брал записные книжки в кафе, пытался писать в других местах, просыпался ночью и старался писать по ночам и по утрам, выпивал бутылку вина или самогона, писал пьяным или с похмелья, устраивался в гостиной или на кухне, но слов подобрать не мог, предложения получались скверными, ненужными, и под конец я сдался. Писать я не мог. Я перестал быть писателем.
Не зная, куда себя деть, я сидел за письменным столом и дожидался, когда Эли вернется из магазина одежды, где тогда работала. Мы вместе ужинали, а по вечерам смотрели телевизор или ложились пораньше спать. Однажды утром в воскресенье мы лежали в кровати, не зная, чем заняться, не понимая, куда себя деть, было совершенно обычное декабрьское воскресенье, незадолго до Рождества, мы тогда подумывали пожениться. Шел снег, белый, нежный, он накрывал город, и казалось, что улицы и дома вот-вот исчезнут под белым снежным ковром. Лежа в кровати, мы смотрели на снежинки, падавшие на подоконник и засыпавшие стекло, и кто-то из нас, не помню кто, но один из нас, должно быть, сказал: «Так больше нельзя».
Я встал и оделся. Мы не ссорились и ни в чем друг дружку не обвиняли. Мы обнялись и решили, что я заеду на неделе и заберу вещи, а мой отец договорится на фабрике насчет фургончика, и я перевезу вещи с Киркегатен на Островную улицу. А потом я прикрыл за собой дверь, спустился по лестнице с пятого этажа и, повернув налево, побрел по снегу к улице Амалии Скрам, а оттуда до дома моих родителей на Островной улице.
Не знаю точно, когда наступает старость, когда она врывается к нам, но в определенный момент мы утрачиваем способность определять собственный возраст, становясь с годами все моложе и моложе. Иногда мы сразу обретаем несколько возрастов, нам одновременно девятнадцать, тридцать и пятьдесят семь, для нас теперь существует множество возрастов, мы незаметно переходим от правды к выдумке, мы выдумываем возраст, имя, кто мы такие и кем хотим быть.
Так много возможностей, так много имен и мест, мы насобирали их, но утратили былую зоркость и не можем рассортировать так же просто, как раньше. Мы проживаем одну жизнь, за ней — другую, а за ней — еще одну, и будто веря в переселение душ, констатируем, что в новую жизнь забрали кое-что из прежних — лица и имена, а больше ничего не помним.
Мы начинаем новую жизнь, в новой комнате с новым адресом, без родителей и возлюбленных. Бывает, что с тобой рядом живет ребенок, подросток. Очень скоро она повзрослеет. Очень скоро она уедет отсюда, и ты окончательно потеряешь себя.