Джон Гарднер - Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
Джордж прошел в кабину, глядя себе под ноги, потом усмехнулся и проговорил:
— Черт те что, мура какая-то… люди, лошади, кошки.
Генри кивнул, не вполне понимая, о чем он говорит.
Он вспомнил кровь на простыне.
Джордж поглядел на него и протянул ему сигарету. Он сказал, словно хотел переменить тему:
— Ты только посмотри, как они все тут уютно устроились.
Генри, хмурясь, огляделся. Он увидел старика с бакенбардами, морщинистой шеей и большой голубоватой шишкой на виске. Рядом с ним за столиком сидел молодой человек, уткнувшийся носом в газету.
Генри сказал:
— Ты ведь, наверное, не помнишь моего отца?
— Смутно, — отозвался Джордж. — Я тогда был еще маленький.
Генри всем телом подался вперед, сложил на коленях ладони и опять взглянул на юношу с газетой.
— Он с птицами разговаривал, со всякими, какие только есть. Они расхаживали у него по плечам, словно он не человек, а дерево. Самый толстый человек на свете. Триста семьдесят фунтов. Это его в конце концов и прикончило.
Джордж молча слушал.
— Он был как гора. Ходил с тростью в два дюйма толщиной. Помню, вечерами он читал стихи. Читает, бывало, и плачет.
— Говорят, он был очень хороший человек, — сказал Джордж.
Генри кивнул, потом медленно покачал головой.
— Как гора. Господи, да видел бы ты только, в каком гробу его похоронили. Нечто уму непостижимое, а не гроб. Я думаю, он весил фунтов шестьсот вместе с покойником.
Джордж разглядывал старика с шишкой на виске. За его спиной сидела женщина с подведенными бровями, напудренным лицом и грубыми руками. С ней был мальчик, вероятно, лет тринадцати, близорукий, ухмыляющийся, со скошенным подбородком. Он был похож на мать, уже вошел в ту же колею. Может быть, и все так, подумал Генри. Сухопарая и жилистая ночная сестра, любящая самолично принимать младенцев, живых или мертвых, тоже кому-то приходится дочкой. И Костард, узкоплечий, носки врозь, с брюшком, обтянутым жилеткой, и у него есть дети, он говорил. Генри потряс головой.
— Чудно, — сказал он. — Господи Иисусе.
Джордж затянулся и ответил, выпуская дым, смешивая его со словами:
— То есть еще как чудно! Ты знаешь, какая вещь есть у каждого из них, до единого? Зеркало. Сунь человека на необитаемый остров, и он первым долгом разыщет там чистую лужицу, чтобы посмотреть на свое отражение.
Он сказал это с горечью, и Генри смущенно рассмеялся. И тут же закрыл рукой лицо.
— Что с тобой?
— Да ничего, — ответил он.
Забыл, совершенно забыл. Вот он сидит тут целых десять минут и ни разу о ней не вспомнил, даже не удосужился подумать, назло ему или серьезно она крикнула: «Я люблю другого!» Тогда ему казалось, между тем местом, где он стоит, и кроватью, на которой лежит Кэлли, пролегает бесконечно долгий путь. Он стоял беспомощный, втянув голову в плечи, такой старый, словно все человеческое уже утратило для него смысл. Может быть, она действительно его не любит. Ведь существует еще и сейчас Уиллард Фройнд. И надеяться человеку не на что. Может, иногда и придет к тебе долгожданная удача, но особо радоваться ей не стоит, твердо рассчитывать можно только на то, что в один прекрасный день у тебя выйдет из строя сердце. Его руки сжались в кулаки.
Джордж, не спускавший с него глаз и, наверно, угадавший его мысли, сказал:
— Ты, я вижу, устал как собака.
Он опомнился. Подошла официантка. У нее было длинное, рябоватое лицо, губы накрашены розовой помадой. Девушка зазывно улыбнулась Джорджу, и, когда она отошла, Генри сказал, не поднимая глаз:
— Ты ей понравился. Ты бы на ней женился.
Джордж усмехнулся.
— Пуганая ворона куста боится.
— Нужно же тебе на ком-то жениться, — сказал Генри. — Кроме шуток. И Кэлли то же говорит.
Такой реакции на свои слова он не ждал. Несколько минут Джордж молчал и сидел как каменный, потом вдруг смял сигарету и встал.
— Давай-ка трогаться. — При этом он усмехнулся, но за всю дорогу до больницы не произнес ни слова.
Дежурная сестра сказала:
— Мистер Сомс, вы можете пройти в родильное отделение. Доктор Костард вас повсюду ищет.
Генри облизнул губы и направился к двойным дверям. Джордж подмигнул, когда он обернулся. Джордж примостился в темном уголке, рядом с журнальным столиком. Его глаза, глядящие на свет, блестели, словно у совы. Лицо стало серым, как пепел.
В родильном отделении Генри с трудом удержался, чтобы не спросить у дежурной сестры, остался ли в живых хоть кто-нибудь, жена или ребенок, но только выжидательно склонился к ней, что есть сил сжимая одной рукой другую.
— Вы можете увидеть вашу жену, — сказала дежурная. Тогда он понял, что если кто-то из двоих умер, то это ребенок, а Кэлли жива; но сразу же себя одернул. Сестра ведь этого не говорила. А потом его проводили в палату, и почему-то он сразу понял — хотя она лежала неподвижно, словно без сознания, — что Кэлли жива. У кровати были подняты перила. Покойникам перила не нужны. Сестра сказала:
— Без кесарева обошлось. Сделали надрез и наложили щипцы.
— Ребенок жив? — спросил Генри.
Сестра улыбнулась лукаво, как кошка.
— Там сейчас идет уборка.
Он хотел еще раз повторить вопрос, но сестра ушла.
Кэлли приоткрыла глаза и смотрела на него. Он к ней наклонился.
— Доктор, — проговорила она хмельным, журчащим голосом. — Генри все еще не пришел?
Он так и застыл, изумленный, чувствуя, как холод пробегает по спине.
Ее пальцы зашевелились, словно она хотела ухватиться за его руку, но она была еще слишком слаба. Она сказала:
— Вы были так добры к нам, ко мне и к Генри. Все были очень добры. Я прошу вас, передайте Генри… — Она улыбнулась, безучастно, будто и впрямь умерла, отлетела куда-то, где стала для всех недоступна, и прошептала: — Доктор, мой муж хороший, добрый человек. Передайте ему, что я так сказала. Передайте ему, я сказала это во сне. — Она снова улыбнулась, загадочно, неожиданно хитровато, и ее глаза закрылись. Генри озадаченно моргнул.
А потом рядом с ним оказался док Кейзи, он вел его сквозь ослепительный солнечный свет мимо увядших сухих растений к застекленной стене, за которой виднелись детские кроватки.
— Док, — Генри всхлипнул; он совсем растерялся, дрожал и дергал себя правой рукой за левую.
— Не хлюпай, — рявкнул док. — Можно подумать, это первый оголец, родившийся на свет божий. Уж не Каин ли? Смотреть на тебя тошно.
Сестра сказала:
— Мальчик, мистер Сомс. Очень, очень крупный мальчик. Девять фунтов, одна унция.
У ребенка были по-монашески сложены ручки, прямоугольный, как у Кэлли, рот. На щечках остались следы от щипцов, одно ушко почернело и вздулось. Деформированная безбровая головка. Рот разинут в плаче, трясутся губки.
— Ну? — рявкнул док Кейзи и подтолкнул Генри под локоть.
Генри прислонился лбом к стеклу, в его груди пылало пламя. Сквозь стекло он слышал голос ребенка. А потом он ничего уже не видел, он плакал, и все вокруг задвигалось, закружилось.
— Он прекрасен, — сказал Генри. Слезы сбегали вниз по щекам, он чувствовал их вкус. — Он прекрасен. Господи Иисусе.
7Теперь, как показалось Генри, все стало по-другому. Теперь все ушло из его рук. Проходя по приемному покою, он огляделся, но там никого не оказалось. Больные; комнатные растения; чужой доктор что-то шепчет, перегнувшись через стул, а Джордж Лумис с изумлением поднял глаза от журнала; вот и все. Он подошел к своему угловатому черному «форду», сел за руль. Из больницы вышел док Кейзи, заторопился к нему, крича. Но Генри притворился, что его не видит, и вывел машину на улицу. Он внимательно оглядывал тротуары, потом выехал за город, и по-прежнему — ни малейших следов. У «Привала» стояли грузовики, четыре грузовика, длинные, темные, увязшие в снегу, и Генри отпер закусочную и пригласил шоферов войти и сварил им кофе. У двери лежал пес и следил за каждым его движением, словно гадал, куда он девал Кэлли. Генри рассказал шоферам о Джеймсе, о ребенке — он теперь произносил это слово, — угостил их сигарами «Белая сова», хохоча, размахивая руками, но, возбужденный разговором, он все время чувствовал в себе и возбуждение совсем другого рода и не спускал глаз с двери и с широкого окна, из которого виднелось шоссе, идущее к лесу. Нет, все так же никого.
Никто не появился и с наступлением сумерек. На коровниках Фрэнка Уэлса зажглись фонари; в доме по-прежнему темно, хозяева еще не вернулись. Нагрянули новые посетители, и Генри снова стал возиться у плиты. Вдруг он заметил, что уже совсем стемнело, и по-прежнему никого нет. В полночь он вымыл жаровню, кастрюли из-под жаркого, запер дверь и выключил свет.
Он пошел в гостиную — Принц скорбно потащился следом — и сел у темного окна. Снег в лунном свете казался голубовато-белым, и стены в комнате были голубовато-белые с серебринкой, мужчина и женщина, мостик, ива, дети. В лесу спокойно, тихо. На Вороньей горе в четырнадцатикомнатном кирпичном доме, где, будто призрак, в одиночестве слоняется, стуча протезом, Джордж Лумис, не светится ни единого огонька, ничто не шелохнется. За лесом, на ферме Фройнда, сейчас тоже, конечно, темно; все семейство спит; завтра с раннего утра за работу. Вот только Уиллард Фройнд, наверно, еще не лег, сидит, усмехаясь про себя, или сбежал куда-то.
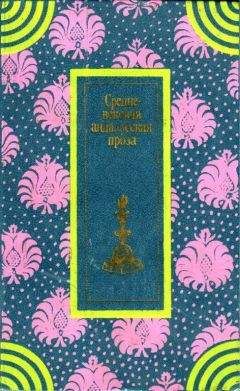
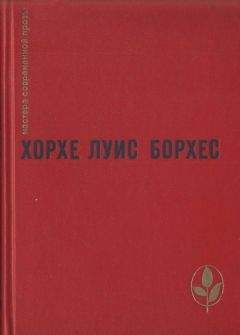
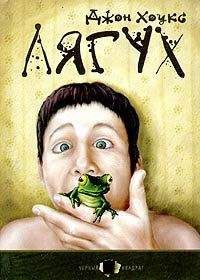
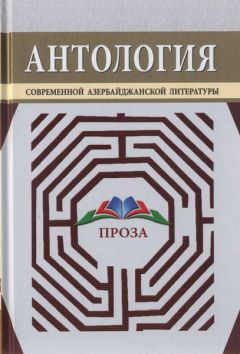
![Джон Уиндем - Паутина [ Авт. сборник]](/uploads/posts/books/60251/60251.jpg)