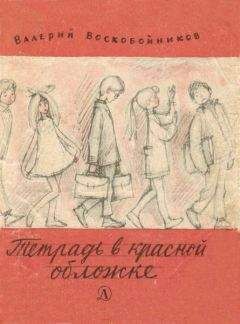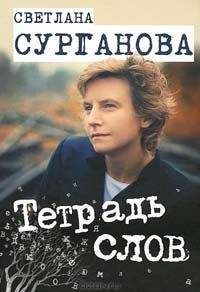Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Выйдя с работы, я пошла к матери, мне хотелось с ней поговорить. По дороге я вспоминала многочисленные жесты, множество небольших знаков внимания, которые оказывал мне директор все эти годы: цветы, которые он посылает мне на Рождество и в которых я никогда не видела того, что, возможно, должна была. Придя домой к матери, я заговорила о нем, о признательности, которую должна к нему испытывать. Сказала, что он не такой, как все, что он действительно выдающийся человек, и об этом красноречиво говорит карьера, которую он сделал. Я хотела бы, чтобы мать задала мне какой-нибудь вопрос и я бы продолжила говорить о нем; вместо этого она сказала: «Он мне не по душе. С того дня, как он принял тебя на работу, хотя ты ничего не умела делать, этот мужчина всегда внушал мне недоверие». Я обиженно ответила, что прекрасно делаю свою работу, что уже выполняю очень важные задачи, и даже если бы потеряла это место, многие другие фирмы с удовольствием наняли бы меня. Она покачала головой со словами: «Может, оно и так. Но странно, что эти важные задачи достаются именно тебе, а не другим сотрудникам: мужчинам, может, даже с высшим образованием». Ее голос звучал сурово, и прежде, чем я могла что-то ответить, она сменила тему.
24 февраля
Сегодня я пошла на работу около пяти. Повернула ключ в двери – тихонько, чтобы не потревожить директора, – и при этом с ощущением, что делаю приятный сюрприз. Но внутри было темно; в тишине звонил телефон. Я замерла в нерешительности на мгновение, глядя на стеклянную дверь в кабинет директора, сквозь которую не сочился свет, а затем подбежала к коммутатору. Я не умею обращаться с кнопками, штепселями; так что пока я поспешно пыталась принять вызов, звонок перестал дребезжать.
Мой кабинет был прибран и выглядел уютно. Вернувшись туда, вдыхая запах полировочного воска, древесины, кожи, я ощущала непередаваемое счастье. Я отложила перчатки, шляпу, неспешно, словно приехала в гостиницу отдохнуть подольше. Мне захотелось заказать кофе, потом я подумала, что будет любезнее подождать. Я села за письменный стол, открыла папку с корреспонденцией, но без директора как будто не могла ни за что взяться. На некоторых письмах я видела его почерк, пометки красным карандашом: «Да, хорошо» или «Нужно проверить», а еще чаще «Обсудим». Это были как будто приглашения к разговору, которые я в его отсутствие не могла принять. Поэтому я в нетерпении напрягала слух навстречу каждому звуку, каждому скрипу. Ничего. Тогда я встала и пошла в его кабинет. Я зажгла лампу на столе, поправила нож для бумаги, карандаш, ручку, которые, впрочем, и так лежали в точности на своих местах. Я смотрела на его пустое кресло и слышала, как его голос нежно произносит: «Обсудим».
Мне казалось, что он имеет в виду не только деловые письма. Может, он понял, что я хотела бы поговорить с ним о Мирелле, и побуждает меня к этому. Может, ждал, что я расскажу ему о себе. Я села в кресло напротив его стола, словно пришла побеседовать. Он – единственный человек, с которым я могу поговорить. Уже много лет как у меня не осталось друзей: у моих старинных однокашниц из пансиона и молодых женщин, с которыми я общалась, когда только-только вышла замуж, совсем другая жизнь: они просыпаются поздно, идут в парикмахерскую или в ателье, после обеда играют в карты, у нас больше ничего общего, мы не можем поговорить. C другими сотрудницами конторы мне столь же неловко, потому что с ними нас не объединяет ни прошлое, ни социальное положение, ни воспитание или манера речи. Да я и не могла бы завести новых подруг; уже много лет у меня едва хватает времени на то, чтобы добежать из дома до конторы, из конторы домой. Я думала, что владею временем, вложенным в детей, как капиталом; но теперь они воруют его и уносят с собой. На самом деле, я не владею ничем, кроме времени, вложенного в работу: только в конторе я чувствую себя свободной и не испытываю ощущения, будто обманываю кого-то. Потому что во мне живет память однажды произнесенной лжи, уж не знаю какой, и обреченности хранить ей верность. «Обсудим, – хотела я сказать директору, – обсудим». Я чувствовала себя так, будто меня охватила лихорадка, и тем не менее сознание было ясным, чистым. Мне казалось, что он уже вот-вот появится, иначе я утрачу значимые фрагменты разговора, имевшего для меня огромную важность. Каждое мгновение драгоценно в моем возрасте, вот что мне хотелось ему сказать.
Телефон снова прозвонил, и я испуганно вздрогнула. Вскочила на ноги, не зная, снять ли трубку. Мне казалось, будто кто-то увидел меня через провод в кабинете директора и посчитал мое поведение бесцеремонным; он и сам, войдя, мог бы задаться вопросом, что я там делаю. Телефон упорствовал, я села на его кресло и сказала: «Алло…» Это был он. Мое сердце заколотилось, он говорил приглушенным голосом. «Сожалею, – сказал он, – я не могу прийти». Я не дышала; я не была готова к такому раскладу, и мне казалось, что все вокруг меня рушится. «О!..» – вздохнула я. Он повторил: «Мне жаль». «Я прямо-таки не знаю, как быть, – сказала я, – я хотела с вами поговорить». И тут же добавила: «Это по поводу кое-каких дел». Он сделал короткую паузу, потом объяснил, что должен задержаться дома, потому что у сына день рождения. И добавил, что уже дважды звонил, но никто не отвечал. «Я догадался, что вы придете в контору, надеялся, что вскоре смогу освободиться, но вместо этого…» Он молчал, не прерывая связи. Я тоже замолчала, затем сказала: «Я прекрасно понимаю, ничего страшного, постараюсь разобраться сама, обсудим в понедельник». Я положила трубку и не могла оторвать от нее руки.
Я еще немного посидела за его столом, на мягкой коже кресла. Наконец поднялась, погасила свет и, больше не оглядываясь, закрыла свой ящик, надела шляпу и вышла. Я брела не спеша, мне не хотелось возвращаться домой, был соблазн присесть на скамейку в общественном саду. Город кажется мне красивее, светлее и привлекательнее по субботам после обеда. Уже некоторое время мной владеет иррациональное желание отдохнуть, оно подталкивает меня распахнуть окно, ощутить на лице свежий воздух, напоминает мне о лесах, деревне, морских пейзажах, а в конце – неизменно о Венеции. Стоит вернуться домой, как этот праздничный порыв развеивается. Дома, не знаю почему, мне вечно хочется просить прощения. Может, потому что я знаю, что много чему не уделяю достаточно внимания из-за этой тетради. Я не ложусь допоздна, а потом чувствую усталость днем. Сегодня, к примеру, я жалела, что ходила в контору и потеряла там время, ничего не делая: кухню все еще надо было привести в порядок, а Микеле нужны рубашки: я писала несколько вечеров подряд и не успела их погладить. Иногда, поддавшись блаженному чувству опьянения, я представляю себе, как отдаюсь беспорядку; оставляю грязные кастрюли, нестираное белье, неприбранные постели. Я засыпаю с этим желанием: свирепым, ненасытным желанием, похожим на то, как я вожделела хлеба, когда была беременна. По ночам я вижу сны, что должна исправить такой страшный беспорядок, но у меня не получается, я не успеваю до возвращения Микеле домой. Это кошмар.
Может, мать была со мной чересчур бескомпромиссна в детстве. «Шей, – постоянно твердила она мне, – учись». Когда я чуть подросла, как только я переставала учиться, она поручала мне какие-то домашние дела. Никогда не позволяла мне бездельничать, никогда не забывала обо мне. А если теряла меня из виду, то входила ко мне в комнату и спрашивала, чем я занята. «Женщина никогда не должна сидеть без дела», – говорила она.
Микеле сегодня вечером вернулся домой довольно поздно; у него был утомленный, усталый вид. Я спросила, работал ли он в банке над киносценарием. Он взглянул на меня, внезапно замерев, словно пораженный моим вопросом. Потом сразу пришел в себя, сказал: «Нет, нет, какой там кинематограф, сегодня столько дел было. У меня болит голова, лягу спать сразу после ужина». Я ответила, что хотела бы поговорить с ним о Риккардо и Мирелле, поскольку мне сложно принимать решения без его участия, доверяясь лишь своему здравому смыслу и, в общем, самой себе. Он ласково сказал, что оставляет мне свободу действовать на мое усмотрение, что я в любом случае всегда могу говорить и от его имени тоже; заверил меня, что никто не справляется с этим лучше и тактичнее, чем я. Он меня растрогал, больше того – его слова мне польстили, и я обняла его, мне нужно было немного поддержки, немного тепла. Ничто не расслабляет меня лучше, чем прижаться лицом к плечу Микеле. Он спросил меня, были ли вести от Клары.