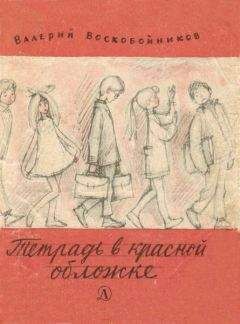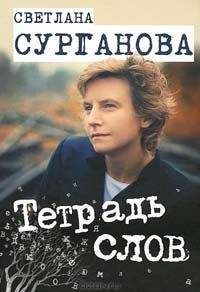Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Вчера вечером он спросил, нельзя ли ему как-нибудь познакомить меня с Мариной. Он хотел бы, чтобы мы побеседовали, только мы втроем. Я сказала – да, хорошо, и улыбнулась. Он продолжал говорить о ней, приводя в порядок книги, чтобы вернуться к учебе; его тон звучал безразлично, но, конечно, это был разговор, который он давно готовил. Говорил, что Марина несчастна у себя дома, ее мать умерла, отец взял вторую жену, очень молодую. Он не хочет признаваться, что влюблен, кажется, будто он просто хочет совершить хороший поступок. Он старательно подчеркивал, что Марина совсем не как Мирелла, что ей не свойственны привычки современных девушек, она даже почти не красит губы, никогда никуда не ходит с другими мужчинами и что, впрочем, он и не позволил бы ей вести себя иначе. «Она всю себя посвящает мне, я могу делать с ней все, что пожелаю, у нее мягкий, покладистый характер. Не знаю, какое впечатление она произведет на тебя, – продолжал он. – Она очень робкая, можешь себе представить, как ее встревожила идея встретиться с тобой». И с нежностью добавил: «И все-таки уверен, что она тебе понравится, ты ее полюбишь; если однажды мы поженимся, думаю, она будет проводить с тобой много времени». Вообще-то, я с недоверием отношусь к обществу, которое мне навязывают другие; но я не решилась сказать ему об этом, мне показалось, так будет невежливо. Я спросила, учится ли Марина с ним в университете. «Нет-нет, – улыбаясь, сказал он, – ей не нравится учиться, она даже диплом об окончании лицея не получила. Ей нравится ходить развлекаться с подругами, посещать кинематограф. Говорю тебе: она совсем девочка». Он сказал, что мне будет приятно познакомиться с ней. Риккардо улыбнулся мне, попросил погладить его серые брюки на завтра и вернулся к своим штудиям.
На самом деле, мне совершенно не хочется знакомиться с этой девушкой: у меня ощущение, что она мне не понравится. Я спросила себя, какой хотела бы видеть супругу моего сына, и, подумав немного, заключила: «Сильной». Вот почему, наверное, многие родители мечтают, чтобы сын женился на богатой: это ведь по сути одно и то же. Но мне кажется, необходима еще более глубокая сила, которую не способны дать даже деньги. Богатый человек боится потерять свои деньги, а этот страх – уже слабость. В сущности – хочу в этом признаться, – в Марине я не полюблю ее возраст, ее юность и то, что у нее еще есть право на ошибку, на неопытность. Я хотела бы, чтобы она была как женщины моего возраста, хотя такими их и делают те самые прожитые годы. Это несправедливо: мне бы стоило сразу же испытать симпатию к этой девушке, которая так сильно любит моего сына. Я неправа в том, что больше не принимаю во внимание любовь; скажу больше: когда я слышу это слово, ощущаю какое-то раздражение. Моя мать всегда советовала: «Не спеши выходить замуж, насладись жизнью». А я смотрела на нее в изумлении, ведь мне казалось, что выйти замуж – это как раз и есть лучший способ насладиться ей. Мне казалось, она уже старая, и я думала, что она говорит так, потому что у нее не осталось других радостей, других развлечений, помимо меня; ее брак за годы превратился в обычное монотонное сожительство. Я думала, что у меня с Микеле все сложится иначе; мы были молоды, сразу после свадьбы собирались в Венецию, нас там ждал огромный номер, выходящий на Большой канал. Моя мать часто говорила, что ей пришлось долго сражаться со своими родителями, чтобы выйти за моего отца; она была готова бежать вместе с ним, если не добьется их позволения. Я не могла всерьез поверить в ее рассказы, мысль о побеге смешила меня. Я представляла, как они встречаются ночью в купейном вагоне, она подходит, запыхавшись, приподнимая платье со шлейфом, папа ждет ее, накручивая кончики усов. Но в этой одежде, в этих движениях я воображала их уже старыми, знакомыми друг с другом и раздражительными, как сейчас. Как же трудно увидеть окружающих нас людей не такими, как те фигуры, которые они вынуждены для нас изображать.
Мне очень хотелось бы поговорить обо всем этом с Микеле; но стоит мне попробовать, я тут же, сама не зная почему, стыжусь и делаю вид, что шучу. Вчера вечером села рядом с ним, пока он читал газету, и сказала, что Риккардо собирается жениться перед тем, как поехать в Аргентину. Муж ответил, что это он напрасно, потому что мужчина, который женится, теряет свободу направлять свою жизнь, как пожелает, он загублен. Униженная, я спросила: раз так, значит, и он тоже… Но он тут же перебил меня, говоря, что наш случай – исключительный. Тогда я почти что в шутку спросила, счастлив ли он. Микеле с легким раздражением ответил: «Что за сложные вопросы! Ну да, разумеется, а как же иначе? Дети умные, здоровые. Риккардо сделает отличную карьеру в Аргентине, Мирелла уже работает, потом выйдет замуж. Чего же еще желать, мам?» Он улыбнулся мне, ласково похлопав меня по руке, и вернулся к чтению.
Я хотела сказать ему: «А как же мы с тобой, Микеле?», спросить, только ли этого мы желали, когда шли к алтарю. А потом подумала, что я неблагодарная: Микеле посвятил всю свою жизнь мне, нашим детям. Я и сама поступила так же, это верно; но для меня это кажется более естественным. Больше того: хотя иногда я думаю, что сделала больше, чем должна была, ведь я работала и ухаживала за домом и детьми, бывает и так, что мне кажется – могла бы сделать еще больше, раз я не испытываю удовлетворения. Чувствую, что не доделала, и не могу понять, что именно. Может, мое беспокойство улетучилось бы, будь я уверена в Мирелле; у Микеле не такое сильное воображение, как у меня, вот он и не переживает за нее. Он сказал, что стоит выдать ей ключи от дома, как она хочет; мне нужно сходить в мастерскую заказать дубликат, но я все еще не могу решиться. Он не задается вопросом, почему вчера вечером Мирелла так поздно погасила свет; мне же этот свет не давал уснуть, и я все ходила по дому, борясь с собой, чтобы не взяться за эту черную тетрадь, которая наводит меня на черные мысли. Я воображала ту жизнь, которую мы вели бы без детей, спрашивала себя, будет ли у нас когда-нибудь возможность совершить-таки поездку в Венецию, которая, как мне кажется, должна решить все проблемы. Как бы там ни было, после поездки лучше нам не возвращаться в этот дом. Когда ближе к вечеру я иду к родителям, меня бросает в дрожь: они сидят вместе у булькающей мазутной печи и клюют носом, тишину нарушает лишь раскатистый бой часов с маятником. Я вхожу, и внутри все время холодно; они удивляются, говорят, что у дома толстые стены и окна выходят на солнечную сторону.
17 февраля
Сегодня у меня был приятный день; может быть, потому, что после обеда я ходила к парикмахеру. Когда я выхожу от него, мне кажется, будто я помолодела; я решаю, что буду ходить каждую неделю, а потом у меня вечно нет лишнего времени, а особенно денег. И все же думаю, что, бывай я у парикмахера раз в неделю, неделя казалась бы мне прекрасней.
Воздух на улице колется. Я чувствовала себя такой радостной и бодрой, что решила извлечь из своего энтузиазма побольше пользы и пойти в контору разобрать кое-какие залежавшиеся дела. Побоялась, что оставила дома ключи, но оказалось, что автоматически бросила их в сумочку. Однако теперь я знала, что директор моей конторы ходит на работу каждую субботу, и немного засомневалась; пошла было в сторону трамвайной остановки, но затем вернулась, передумав. Конечно, директор настолько ко мне привык, что мое присутствие не должно его побеспокоить. Но в ту субботу – может, потому что нас не связывали привычные рабочие обязательства и график – он показался мне в новом свете. На самом деле, я не знаю о нем ничего, не знаю, каков он дома или среди своих друзей, в какой-нибудь гостиной. Однажды я была у него дома, когда он заболел, но все равно хотел надиктовать какие-то письма. Помню, что, войдя в его комнату, я почувствовала, что передо мной незнакомец. Мне было неловко; среди складок пижамы я видела его более светлую шею там, где обычно ее закрывает воротник. Он и сам вел себя со мной так, словно я его навещаю; у него был необычный, почти церемонный голос – тот же, что в прошлую субботу в конторе.