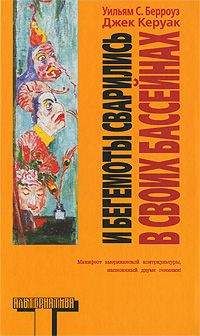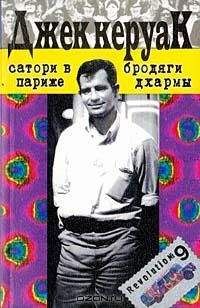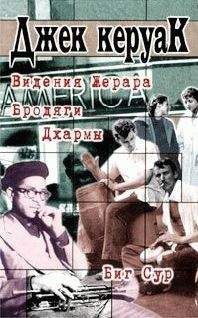Николай Студеникин - Перед уходом
Но почему именно то — не первое и не последнее — застолье занозой застряло в памяти, как и весь тот долгий осенний вечер? Ах, конечно, из-за твоей открытки и письма. Ведь наизусть помню! «Вы не ответите мне, я знаю. Смешно надеяться. Кто я таков? Неудачник, каких много. А Вы…» — писал ты, рассчитывая на то, что твое предсказание исполнится, да только, как Катька любит говорить, «в обратном смысле». То есть наоборот. И вот тогда-то, сидя на кровати у близко придвинутого стола под клеенкой, глядя, как исчезают с тарелки маминой засолки огурцы, я и решила: напишу ему, отвечу! И обращусь на «ты». Что за церемонии?
Храбрый портняжка! Но как поступить с липовым моим студенчеством, с обманом, одно воспоминание о котором столь удручающе подействовало на меня в сумрачном зале почтамта? «Обман, вранье? Но какое же это вранье? — не вслух, конечно, однако хмельно и отважно рассудила я, слыша дождь за окном, за распахнутой настежь форточкой, и славные гитарные песни, которые по радио почему-то передают страшно редко. — А ежели и вранье, то в степени самой ничтожной. Нет, скорее всего, это будущая правда — правда возможная, и я в силах сделать ее действительной. И года не пройдет, как я…»
Все, буквально все с ног на голову перевернула! Спьяну-то. Суть же, как я сейчас понимаю, была проста: мне хотелось, мне очень хотелось писать кому-нибудь письма и самой получать их, да еще в такой романтичной обстановке — в окошке почтамта, предъявив документ, последив за чужими проворными пальцами и увидев свою фамилию, имя и отчество, написанные не своей рукой, ибо все это удостоверяло бы мою самостоятельность и окончательную взрослость лучше любых паспортов.
А Вася пел:
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
Говорите мне прямо в лицо, чем пред вами слыву.
Царь небесный простит все мученья мои и сомненья…
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
И еще одно открытие сделала я в тот вечер — открытие, потрясшее меня своей обыденностью. Где-то возле полуночи в нашу дверь постучали. На пороге вырос невысокий крепыш с могучей шеей борца классического стиля и значком — бородатый профиль Дзержинского — на лацкане пиджака. «Извиняюсь, — миролюбиво сказал он. — Привет, Катюша! Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Пора, пора выкатываться, ребята! Завтра на работу всем с ранья… Давай, Вася, вставай!» Гости поворчали и начали собираться восвояси. Загремели стулья; зашуршали плащи; белобрысый гитарист, которого и звали Васей, закинул гитару за спину, будто ружье. Крепыш со значком на пиджаке уже стучал к кому-то из соседей. Галя тоже оделась, сунула ноги в красные резиновые сапожки, взяла сумочку. Ее подруга молчаливая раздавила о крышку маминой банки последний окурок. Распрощались, ушли.
А мы с Катькой остались. Катька отправилась на кухню мыть посуду, мне досталось убрать в комнате, подмести пол и проветрить — очень уж накурили! По радио, где-то далеко-далеко, главные часы страны, которые на Спасской башне, пробили полночь, зазвучал гимн: «Союз нерушимый…» Ну, я протерла клеенку тряпкой, выкинула мусор в бак на кухне, подмела, выдвинула стол на середину комнаты. Табачный дым нехотя выползал в форточку и в распахнутую настежь дверь; взамен вливалась сырая свежесть ночи.
Потом я отправилась умываться. Несказанно приятно было утереть лицо нагретым на настольной лампе полотенцем. А я-то еще поначалу обиделась: «Хорошо, закрывайте, если вам яркий свет мешает! Но почему именно моим?» Это я взяла на заметку и теперь, когда есть возможность, грею полотенце, а потом сибаритствую. А когда я, в халатике, с влажным полотенцем на плече, возвращалась из умывалки, давешний коротко остриженный крепыш улыбнулся мне и кивнул, будто старой знакомой. Он, выпроваживая последних припозднившихся гостей, топтался на лестничной площадке нашего этажа.
Вот раньше, говорят, этаж этот по вечерам запирали на сто запоров, а в стальные петли-пазы, которые сохранились и посегодня, вкладывали деревяшку размером со шпалу на узкоколейке. Запасшись провиантом и водой, можно было выдержать длительную осаду. А потом этот порядок отменили. Подслеповатая Августа Андреевна, бывшая стенографистка, самая тихая и добрая из наших вахтерш, с которыми мне теперь — из-за сына нашего — ежедневно приходится иметь дело, рассказывала мне, как это случилось.
Директор нашего завода, депутат и лауреат, которого я издали видела лишь в черной машине, да еще в праздники, когда он, вся грудь в орденах, вместе с секретарем парткома, главным инженером, дядькой одним из котельно-сварочного цеха, у которого лицо сожжено так, что страшно глядеть, а орденов не меньше, чем у директора, и еще кое с кем из высшего начальства шагал к Дому Советов во главе заводской колонны демонстрантов — одних знамен с бахромой и тяжелыми золотыми кистями несли и везли на разукрашенных, обтянутых кумачом грузовиках штук пятьдесят, и переходящих, и всяких, а потом еще у каждого цеха свои, — так вот, директор, сопровождаемый почтительной свитой, осматривал общежитие и заинтересовался запорами. Даже потрогал внушительные скобы рукой: а это, мол, что такое? Зачем?
Ему наперебой объяснили: этаж женский, так что… защита от поздних мужских вторжений… «Девичий монастырь?» — будто бы пошутил он, вскинув бровь. В свите, конечно, рассиялись согласно: монастырь, монастырь… «Ну нет! Не монастырь, а зоопарк, — возразил вдруг ему кто-то из девочек, из рядовых, случайно оказавшихся рядом. Подозреваю, что это была Катька, ее почерк, хотя прямых доказательств у меня нет. — Зоопарк навыворот! Видели такой? Хищники на воле гуляют, а люди в клетках — для безопасности! Взаперти!» — «Ах, вот каково ваше мнение? — как рассказывали, улыбнулся директор. Улыбнулся, не рассерчал. — Про Мэри Поппинс читали?» — «Простите, про кого?» — «Книжка такая, детская, с английского перевод, мы с внучкой по вечерам листаем иногда, а кое-что даже зачитываем вслух — избранные места. Во многих смыслах полезно!»
Из свиты на девочку, конечно, зашикали: поди, мол, прочь, не вертись под ногами, стали делать большие глаза, с укоризной качать головами, однако она не испугалась — пожаловалась: «Минут на пять опоздаешь, после второй смены задержишься или автобус подведет, — все! Не достучаться уж. Доску снимут, а ключей нет, унесли, у кого они — неизвестно. Хоть на перилах спи, хоть на кафеле, а хоть к тем же мужикам просись, от которых нас охраняют! Камешек с улицы в свое окно кинуть, чтоб соседки простыни в жгуты вязали, вниз спускали, как альпинисту в горах, и то нельзя — высоко больно живем, не добросить…» Директор наш, немного похожий на артиста Кенигсона из Малого театра в Москве, мы его видели в кино «Свадьба Кречинского», мне очень понравилось, а Катьке — нет, она за разоблачителя Нелькина горой, а мне он неприятен был: ничтожный какой-то весь, молью траченный, будто из бабушкиного сундука, да и все хваленое правдолюбие его из корысти, из выгоды, — директор выслушал все это, нахмурил брови и кратко распорядился: «Убрать!»
И — убрали. Правда, некоторые деятели ожидали, что начнутся, так сказать, «похищения из Сераля», и даже предсказывали их вспышку. Однако ни на одну из нас покуда никто не покушался, ни одну никакой джигит ночью силой не умыкнул, поперек седла не кинул, не умчал, нахлестывая коня камчой. Не в горах живем, не в старое время! Хотя я знаю некоторых, которые очень и очень не прочь… чтоб их умчали. Да и сама-то я, правду сказать…
Когда я вернулась в комнату с сырым полотенцем на шее, Катька уже в постели была, читала. «Запирай!» — говорит и со сла-адким таким зевком, с потягом отложила книгу — пухлую, зачитанную, библиотечную. Константин Сергеевич Станиславский, «Работа актера над собой». Катька ее не подряд читала, а с того места, где откроет, страничек по пять-шесть зараз, не больше, чтобы не переутомляться. Из библиотеки ей предупреждения шлют, одно другого грозней, на карточках из каталогов — таких плотных, с дырочками: «В трехдневный срок…» — а Катьке хоть бы хны, до сих пор книгу не сдала, да и не собирается.
«Запирать? А Галя?» — спросила я. «Галя? — как-то очень нехорошо усмехнулась Катька. — Галю мы до завтрашнего вечера не увидим. А то и на недельку завьется, хвост трубой! Пришли… — Смешок опять. — Явились, не запылились: «Девочки, девочки!..» Я сразу к мужикам спустилась — Ваську Трефилова позвала. Чтобы тот, второй, не питал надежд напрасных, попусту не расстраивался. Ну, Васька, он всегда готов — раз-два, гитару на плечо. Он и в магазин сбегал, пока они внизу эту, пепельницу-то наманикюренную, по автомату вызванивали… Ну, чего столбом стала? Ложись! Не слышала, откуда дети берутся?» Я ей: «Почему? Слышала… я ничего… так…» — и потушила свет, легла.
Галин уход потряс меня именно своей обыденностью. Деловитостью скучной, что ли? И все, кто за столом сидел, наперед знали. Кроме меня… О господи! Где же покров, приличествующий тайне? Глупое чувство! Похожее я испытывала, когда мамин «роман» с дядей Федей Халабруем был в разгаре. Мне выпускные экзамены в школе сдавать, в институт готовиться надо, а мама меня в сенцы ночевать выслала, под дырявую крышу, на старый папин верстак. Крючок накидывала на дверь. Будто я войду к ним, очень мне нужно! Я до рассвета из-за этого ерзала, не спала. Как они не поймут, что я знаю? И не одна я, а все село? Ведь знать — это все равно что видеть! Возмущалась я всем этим, будто старик Хоттабыч на футболе. Так бы и заорала на них: «Да что же вы? Не по правилам-то?!» — будто мне известно, каковы они, эти правила. «Главное, — думаю, — чтоб ни одна живая душа на свете не знала! Боже мой! — задыхаюсь. — Да разве можно ждать нежности от таких черствых рук? О, нет, нет, у меня все будет не так… — иначе…» Слова какие-то особенные мерещились, прикосновения. Вот и накаркала себе, дура!