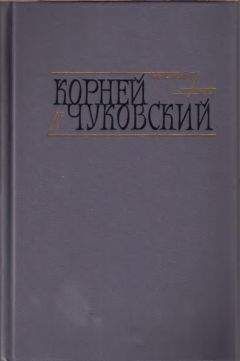Небесные всадники - Туглас Фридеберт Юрьевич
«Мидия» брела по едва различимой тропинке. За пазухой ощущалась тяжесть заряженного браунинга. И эта тяжесть сквозь нагоняющую сон усталость отзывалась в ней бодрящей радостью. Ты как охотник в дремучем лесу, как солдат в атаке! Эта черная игрушка придавала смелости и вселяла чувство защищенности. Она опять всколыхнула в девушке бунтарство ее детства.
Голова гудит, ну, и пусть гудит! Силой своей воли человек справится с усталостью бессонных ночей, пульсирующей болью в голове и снежной метелью. Силой воли, наперекор себе, не убоится самого опасного задания. Пока в сумрачных пещерах мозга единовластно правит разум. И как же радостно чувствовать, что противоборствующее окружение никнет перед ним, отступает даже чувство величайшей опасности.
Гимн борьбе гремит как песнь жизни.
«Мидия» брела вперед, торила дорогу в метели.
Она почувствовала, что ее как бы подхватила новая волна. Пробудившаяся любовь приумножила энергию. Стремление к кокетству уступило желанию сделать что-то значительное, возвыситься в своем свершении до него, мужчины.
Она ведь любила «Феликса», хотела его. Но как пробудить и в нем это чувство слиянности? Добиваться этого стыдливой краской на лице, потупленным взором, блаженными вздохами — всей той ребячливой пошлостью, которую сама она ненавидела до глубины души? Нет, ее любовь не из таких! Зачем наивно вздыхать и заливаться краской, когда знаешь, что такое женщина и что такое мужчина?!
А может, подойти к нему и сказать:
— Знаешь, я так хочу тебя. Проведи со мной эту ночь и еще много других ночей! — Но нет, нет! Разве этого она хотела, разве так? Нет, она счастья хотела, как и любая другая женщина, пускай даже сознательно. Иначе почему ее влекло именно к этому человеку, почему именно от его слов, его жестов трепетало сердце? А иначе не все ли равно было бы, чьи горячие руки обнимут твои плечи? Но нет, нет! Она хотела его одного, принадлежать ему одному, и он один должен был безраздельно принадлежать ей! И она будет отстаивать свое исключительное право изо всех своих слабых сил.
Но как же тогда, как? Разве не все тот же это животный инстинкт, который ищет проявления помимо того, что она хотела бы считать главным в своей жизни?
«Мидии» не важна была юридическая или моральная сторона дела. Что значили для нее обычаи, законы, брак! Догмы морали неодолимы только для хилых и слабодушных. Как улитка в раковину, так и они прячутся за эти догмы и считают, что надежно укрыты от любых треволнений. Она же всего-навсего человек: в крови, в биении сердца, в пылании щек чувствует она весенний зов природы. Сбылось все, о чем она со страхом думала еще девочкой: груди налиты жизнью, а сердце трепещет в тоске по мечте, по прекрасному.
Но что же делать, что делать? Как миновать это горное ущелье своей жизни, пройти эту расселину, не поранив душу и тело?
Она женщина свободная и должна оставаться свободной даже в объятиях мужчины. Это возвысит ее над жестокостью жизни, укажет, как пройти через то, чего не миновать. Мужчина не должен желать ее как куклу или цветок. Только рабы — пешки, рабы — страдальцы, рабы — жертвы жизни. Надо стать выше их!
Работать так, чтобы «Феликс» почувствовал ее силу, понял весомость ее мысли! Жить, зная даже глубины своего подсознания!
Целая вереница фантастических планов проходила в голове у «Мидии». Мечты об отчаянно-смелых акциях и беспощадной борьбе во имя общего дела. Почти такие же, как бывали у нее — девчонки, читавшей рыцарские романы. Да и в конце концов не так уже далеки от них грезы любой влюбленной девушки. И в них над соловьино-песенными ландшафтами поднималась бледная луна…
Она выбирала самые трудные задания, отдавалась работе, как аскет, душа ее жаждала дел. Суровая жизнь подминала ее, больную и бессильную от поисков и разочарований. Но она снова брала себя в руки.
Порой бессонными ночами, лежа в постели, заложив руки за голову, она широко раскрытыми глазами следила, как пляшут по потолку причудливые блики. В ней мелькали мысли и настроения, бесцельные и нестройные, как лесной шум. В нем звучали ее любовь и терзания, счастье и боль. В такие минуты даже порывистое биение собственного сердца и дрожь усталого тела доходила до нее словно бы откуда-то извне и не имели ничего общего с ней, заблудившейся в бескрайности мечты, внимавшей тревожному рокоту прибоя чувства.
Большая черная ольха склонила ветви до самого сугроба. Отставший кусочек коры на ее стволе наигрывал жалобную мелодию. За ольхой на фоне неба чернели просвечивающие арки железнодорожного моста.
«Мидия» стояла посреди реки под исполинским мостом и смотрела вверх сквозь заросли железных балок. Перед ее глазами по ту сторону пролета роились на небе черные тучи, выгнув хребты, словно летящие по скифским степям конные гунны, под напором которых качаются гребни курганов и содрогаются дали.
В БЕЗДНЕ СНОВ {11}

Я снова проснулся — нет мне покоя в эти страшные ночи! Мне снился все тот же сон — кошмарный сон:
Угрюмые всадники скачут по снежной равнине. Кони по колено утопают в шершавом снегу. Седоки упрятали руки в рукава, а сабли, тускло отливающие в сумерках, держат под мышкой. Хмуро оглядывают они серый, безжизненный ландшафт.
Как обезлюдела земля! Какой жуткой была равнина! Голые деревья чернели обочь снежных полей. Тут и там среди деревьев и сугробов темнели приземистые домишки. Но ни в одном оконце не мерцал огонек, и когда всадники подъехали ближе, все было мертво.
Открыв ворота, они въехали в подворье и стали у дверей. Ни одна собака не бросилась к ним с лаем, нет, ни за одним окном не белело испуганное со сна лицо. Они спешились, привязали коней к забору и пошли друг за другом, в темноте держа обнаженные сабли прямо перед собой.
Они вошли в сенцы. От ворот задувало, снег скрипел под сапогами. Ощупью через высокие пороги прошли они в овин. Тьма здесь стояла кромешная, пахло торфом и каменкой. Закоптелые жерди над головой будто подрагивали на морозе.
Оттуда они перешли в комнату. Сквозь заледенелые окна пробивался тусклый свет, на полу крестами лежали тени от рам. Большая глиняная печь на ощупь была холодней льда. Руки в перчатках пошарили в постели — солома зашелестела, словно сухие листья. Потом уселись за большой обеденный стол и долго молчали.
Головы в высоких шляпах чернели в оконном свете, изо ртов в простылой комнате вырывались клубы пара. И кивали их песьи морды {12}: ни души! Безлюдна была земля, как глухой лес. Дни и ночи напролет рыщут они и ни единой живой души. Вымерли люди — все до единого!
Тишина росла, в неверном снежном свете комната становилась все более жуткой. С земляного пола поднимались старозаветные запахи. Над столом точно зубья льночесалки тускло отсвечивали сабли всадников. Но вот они будто пошли ржавчиной, густо покрывшись бурыми пятнами. И, как кровавые слезы, пятна стекали ниже, ниже. Сабли источали кровь.
Страх обуял меня, недвижимый, беспомощный, как у заживо погребенного. Я чувствовал, как шевелятся волосы у меня на голове. Потом на дворе заржала лошадь — резко, пронзительно — и я проснулся.
Дрожа от жутких сновидений, я зажег огонь.
Довольно долго я был словно парализован и, превозмогая дремоту, только радовался свету и тому, что я существую. Бездонная пропасть лежит между сном и явью, но в минуту пробуждения она не шире трещинки в зеркале. Один ее краешек — реальный, другой — невиданный мир, и ты в отчаянии мечешься между ними.
В ночной тиши я снова увидел надежные предметы и успокоился. Я увидел синюю кафельную печь, пол, покрытый клеенкой, старинные картины по стенам и заряженный револьвер на тумбочке. Увидел запертую дверь и окно на запоре и понял, что хоть как-то защищен.