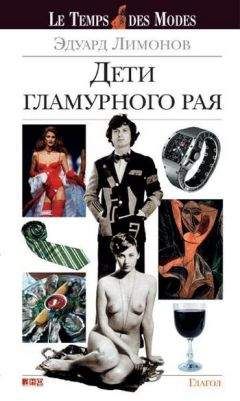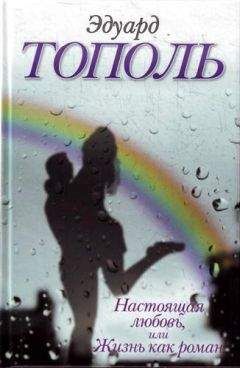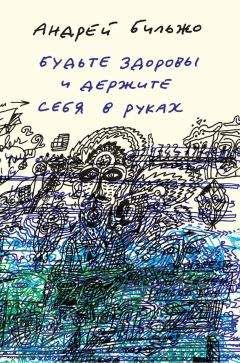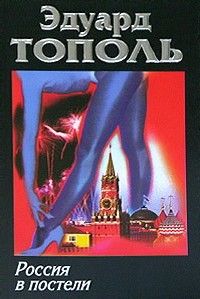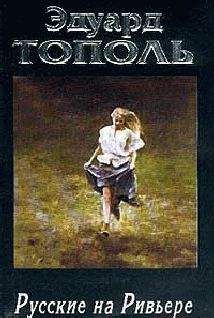Эдуард Тополь - Настоящая любовь или Жизнь как роман
НАДЗИРАТЕЛИ. Скорей, ребята! Шевелись!
Вечером, побрякивая кандалами, бригада из нескольких сотен человек, сопровождаемая конвойными солдатами с заряженными ружьями, возвращается с работ в острог. Изнуренные нечеловеческим трудом, прозябшие, голодные после суточного поста…
В шуме и гаме арестантской камеры Достоевский пытается уединиться с Библией в руках… В казарме пол грязен на вершок; маленькие окна заиндевели, на стеклах на вершок льда; с потолков капель… Арестантов как сельдей в бочонке. Печка чадит, угар нестерпимый, тепла нет… Тут же в казарме арестанты моют белье… Поворотиться негде, в сенях арестанты мочатся в ушат…
На берегу Иртыша в бараке каторжане выжигают и толкут алебастр. Достоевский, как и другие, исполняет черную работу в мастерских, часами вертит точильное колесо, обжигает и толчет алебастр… Под ударами арестантских молотов алебастровая пыль разлетается по воздуху, наполняя барак миллиардами белых, блестящих, как бы живых, искорок…
Ночь. Арестанты спят на голых нарах, укрывшись коротенькими полушубками и поджав голые ноги. По ним ползают тараканы, каторжники чешутся во сне от блох и вшей…
«Уже глубокая ночь, — описывает эту сцену Достоевский в «Мертвом доме», — я вздрагиваю и просыпаюсь случайно… приподнимаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете свечи… Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, — всматриваюсь, точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобразного сна…
Но это правда: вот слышится чей-то стон, кто-то тяжело откинул руку во сне и брякнул цепями. Другой вздрогнул во сне и начал говорить; а дедушка на печи молится за всех «православных христиан», и слышно его мерное, тихое, протяжное:
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас!..»
Весеннее утро. Арестанты строятся к выходу на работу. Надсмотрщик отделяет Достоевского и еще одного каторжника от колонны, направляет в кузницу… В кузнице Достоевский подходит к наковальне. Кузнецы оборачивают его спиной к себе, поднимают сзади его ногу, кладут на наковальню. Вся нога у щиколотки стерта кандалами до кости.
КУЗНЕЦЫ (друг другу). Заклепку-то, заклепку повороти перво-наперво… Бей теперь молотом…
Кузнец бьет, кандалы падают…
ДОСТОЕВСКИЙ (радостно). Экая славная минута!..
(Конец подтитрового фона)
Степь. Весенний деньДостоевский с группой ссыльных идет по степной дороге. Вот как это описано у самого Достоевского и других свидетелей:
«…надо мною сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода!..» (Достоевский.)
«…то там, то здесь чернели юрты киргизов, тянулись вереницы верблюдов…»
«Он шел по этапу пешком из Омского острога в Семипалатинск, к месту солдатской службы, но встретился им обоз, везший канаты, и они несколько сот верст проехали на этих канатах. Он говорил, что во всю жизнь не был так счастлив, как сидя на этих жестких канатах…»
«Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни и, быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить… Надежды у меня было много. Я хотел жить…»
«…оборванный и полуголодный по этапу пришел Достоевский в Семипалатинск».
Семипалатинск, плац перед солдатскими казармами. Мартовский деньСемипалатинск — удручающее захолустье, затерянное в глухой киргизской степи, недалеко от китайской границы. Одноэтажные бревенчатые домишки на правом высоком берегу Иртыша, бесконечные заборы, на улице ни одного фонаря… Жителей 5–6 тысяч человек вместе с гарнизоном… Киргизы живут на левом берегу, большей частью в юртах. На севере лежит казацкая слобода, там сквер, сады, крепость. Здесь помещалось все военное: казармы линейного батальона, конная казачья артиллерия, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма. Здесь же православная церковь, единственное каменное здание; большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей; армейские казармы, госпиталь… Ни деревца, ни кустика, один сыпучий песок, поросший колючками…
Из казармы на плац выбегают солдаты, строятся повзводно.
Достоевский, выбежав последним, на ходу застегивает ремень и становится в строй. Шинель на нем перекошена, треуголка сбита.
Ротный офицер Веденяев по кличке Буран, проследив за Достоевским тяжелым взглядом, командует фельдфебелю Маслову.
БУРАН. Первый взвод — в караул. Второй — заготовка дров. Третий — красить казарму. Четвертый — строевые учения. (Показав пальцем на Достоевского, недобро.) Так… А это у нас сочинитель, писатель, с каторги новобранец. За ним смотри в оба!
…Солдатские сапоги звучно впечатывают подошвы в хрупкий песок плаца. Среди марширующих — новобранец Федор Достоевский.
Фельдфебель Маслов — «крошечная голова на несуразном туловище, все лицо усыпано угрями, нос в виде клюва, узкие черные глаза»[3] — спиной бежит рядом со строем.
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (весело, лихо). Ать-два! Ать! Выше ногу! Выше! Тяни носок! Ать-два!..
Мимо плаца идут две дамы — 36-летняя Елизавета Герф, первая местная красавица, жена горного генералинженера, и 28-летняя Мария Исаева, на четверть француженка, «красивая худощавая блондинка среднего роста… хрупкая… ее волнистые волосы были разделены пробором посредине… в ней было сочетание детского и женского…».
Марширующий в строю Достоевский останавливается и замирает, впиваясь глазами в Марию. Идущий позади Достоевского пожилой татарин Бахчеев натыкается на него, на Бахчеева натыкается семнадцатилетний кантонист[4] Кац, и весь строй солдат сбивается с ноги.
Фельдфебель гневно подлетает к Достоевскому.
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (кричит). Достоевский! Мать твою!..
Дамы оглядываются на этот крик, и Исаева встречается глазами с Достоевским. Это секундное, но пронзительно емкое скрещение взглядов — серые глаза Достоевского расширяются как при безумии, а взгляд Исаевой от жалости к этому худющему солдатику переходит в изумление перед его открытым и восторженно-чувственным интересом к ней.
Но тут фельдфебель дает Достоевскому такой подзатыльник, что Достоевский едва не тыкается носом в землю.
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (орет). Взвод, ложись! По-пластунски!..