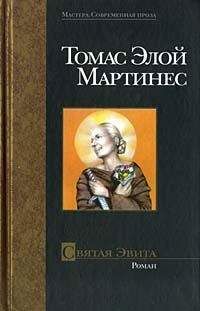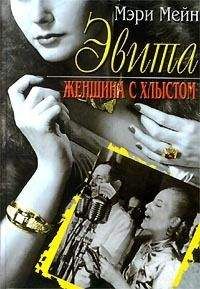Хорхе Семпрун - Подходящий покойник
Для начала Каминский отвел меня к капо санчасти Эрнсту Буссе, немецкому коммунисту. Одному из ветеранов-коммунистов в Бухенвальде, насколько я понял.
Кряжистый, бритоголовый, с квадратной челюстью — Буссе был крепышом. Я уже видел его однажды в Arbeit, когда он заходил к Зайферту. Мне врезался в память его взгляд — столько решительной, безнадежной холодности, такая ледяная проницательность.
Он не стал терять времени на болтовню.
— Мы положим тебя к безнадежным, — сказал он мне. — Рядом с твоим будущим трупом.
И махнул рукой, вроде как извиняясь. Но я понял, и он видел, что я понял, и продолжил:
— Ты родился причесанным, кстати сказать. Mit der Glückshaube bist du geboren!
Я обратил внимание, что французское выражение звучит так же, как немецкое. Но я настаиваю, что испанский «цветок в заднице» гораздо забавнее для обозначения удачи. Я тогда еще не знал, что есть и французские выражения, где упоминается задница. Им обучил меня мой друг Фернан Баризон, металлург, сражавшийся в интербригадах, здесь же, в Бухенвальде. Позднее, много позднее одна красивая, очень красивая женщина — единственная из тех, кого я знал, произносившая естественно, не жеманно и не манерно, словечки и выражения из парижского жаргона, изобретательного наречия, полного юмора и лингвистических находок, — употребила при мне это выражение, обозначавшее удачу: «У тебя задница медалями увешана!» И еще более странное и более непристойное: «У тебя вся задница в лапше!»
Как бы то ни было, но в кабинете Буссе в санчасти Бухенвальда у меня не было ни времени, ни возможности пускаться в компаративно-лингвистические отступления.
Буссе продолжал:
— Молодой француз не переживет сегодняшнюю ночь. Завтра утром у нас будет время, в зависимости от новостей из Берлина, записать смерть под его или твоим именем…
Я был в курсе, Каминский мне уже объяснил все детали. Вероятно, Эрнст Буссе хотел подчеркнуть свою роль в этом деле.
— Есть одна закавыка, — продолжал он, — сегодня в санчасти у эсэсовцев попойка. Они отмечают день рождения одного из врачей. Напьются в дымину. В таких случаях они иногда заявляются с проверкой, в любое время… Им нравится копаться в дерьме. Если что, сделаем тебе укол. Не беспокойся, у тебя просто будет сильный жар, и все. Завтра не будешь как огурчик, зато живой.
Он посмотрел на меня.
— Да, толстяком тебя не назовешь, но ты совсем не похож на умирающего, совершенно… Советую тебе в случае чего бредить. Если они придут, скажем, что в твоем случае мы опасаемся заразной болезни. Они их до ужаса боятся…
Вот и все, он жестом отпустил нас. Мы с Каминским вышли из кабинета, он повел меня по коридорам санчасти.
— Твой давешний старый француз, — вдруг сказал он. — Без толку… Он все равно не жилец!
Это было похоже на правду, но я разозлился:
— Во-первых, он не старый! И потом, никогда не знаешь, как все обернется!
Каминский пожал плечами:
— Да нет, тут все ясно, все слишком ясно… Ты видел его глаза? Он сломлен.
Да, глаза. Когда в человеке появляется трещина, когда душа погружается в уныние, мы замечаем это по глазам. Тогда взгляд тускнеет, и в нем сквозит безразличие. В нем не отражается больше ни страха, ни страдания — ничего. Этот взгляд всего лишь говорит — меня нет, я не здесь. И вот тогда уже окончательно ясно — человек сдался, в нем нет больше жажды жизни. Ты помнил, как в этих глазах мелькало любопытство, возмущение, радость, — а теперь видишь, что их обладатель, кем бы он ни был, безмолвно обрушивается в головокружительное небытие. Его нет, он поддался чарам Горгоны.
— Без толку, — повторил Каминский.
Я начал закипать. Вероятно, он был прав, но я злился.
— А для меня есть толк, — раздраженно ответил я.
Он остановился и уставился на меня, нахмурив брови.
— Что ты хочешь сказать?
— Только то, что сказал. Что для меня будет толк, если я хоть как-то ему помогу, пусть даже самую малость.
— Ты чувствуешь себя лучше, так, что ли? Может быть, ты чувствуешь себя лучше всех?
— Не в этом дело. А если и так, это что, запрещено?
— Не запрещено. Но бессмысленно. Мелкобуржуазная роскошь.
Он не сказал «kleinbürgerlich», он сказал хуже. Он произнес «spiessbürgerlich», углубив коннотации мелочности, узости мышления, эгоизма — тех качеств, которые подразумевает это прилагательное «мелкобуржуазный».
Я знал, что он имеет в виду, мы все это уже обсуждали. Для него доставить себе удовольствие, совершив доброе дело, — это мелочь, не стоит усилий. Если он и признавал что-то, то никак не жалость, не сострадание, еще меньше нравственный закон. Каминский верил только в солидарность. Солидарность в сопротивлении, естественно — это была вера в коллективное сопротивление. На время, конечно, но она налагала определенные ограничения. Она непредставима в других исторических условиях, но необходима в Бухенвальде.
— С тех пор как ты здесь, — спросил я его, — неужели тебе ни разу не приходилось делить свой кусок хлеба с товарищем, для которого было уже слишком поздно? Неужели ты никогда не совершал бессмысленных — с точки зрения выживания другого человека — поступков?
Он пожал плечами, — естественно, такое с ним случалось.
— Были другие времена… Командовали тогда «зеленые треугольники» — уголовники, у нас не было такого организованного сопротивления, как теперь. Личный поступок, личный пример был решающим…
Я перебил его:
— Организация, о которой ты говоришь, подпольная… Ее действия, какими бы эффективными они ни были, не всегда заметны — большинство заключенных не знают о ней либо понимают не так. Зато очень заметен ваш особый статус, ваши привилегии Prominenten… Один красивый бесполезный жест время от времени — никому хуже не будет…
Но мы уже дошли до конца коридора санчасти. Он показал мне дверь:
— Это там. Тебя ждут.
Он сжал мне руку.
— Ночь будет длинной среди всех этих смертников и трупаков… И потом, там смердит, воняет дерьмом и мертвечиной… О чем ты будешь думать, чтобы забыться?
Это был не вопрос — прощание. Я вошел в палату санчасти, где меня ждали.
Мне велели оставить одежду в подобии гардероба и выдали взамен узкую рубашку из грубой ткани, без воротника и слишком короткую — она не прикрывала мой срам, как я написал бы по-испански (иначе говоря, моих половых органов).
Меня уложили рядом с умирающим, место которого я должен был занять, если потребуется.
Я буду жить под его именем, а он умрет под моим. В общем, он отдаст мне свою смерть, чтобы я мог жить. Мы обменяемся именами, это к чему-то обязывает. Его сожгут под моим именем, а я выживу под его, если придется.
Холодок пробежал по спине — вдобавок я чуть не зашелся сумасшедшим, скрипучим смехом, — когда я узнал, какое имя буду носить, если запрос из Берлина в самом деле окажется серьезным.
Едва растянувшись на нарах рядом с «подходящим покойником», как сказал Каминский сегодня утром (покойник этот, впрочем, оказался всего лишь умирающим), я захотел увидеть его лицо. Законное любопытство, согласитесь.
Но он лежал ко мне спиной, худой, голый — возможно, шершавые рубашки снимали с тех, кто был уже вне этой жизни, — скелет, обтянутый серой, морщинистой кожей, бедра и ягодицы покрыты слоем жидких, уже засохших, но все еще воняющих фекалий.
Я медленно повернул к себе голый торс.
Этого можно было ожидать.
«Столько же лет, сколько тебе, почти день в день, — сказал мне Каминский сегодня утром о покойнике, который подходил мне по всем параметрам. — Невероятно, студент как и ты, и к тому же парижанин!»
Я мог бы догадаться раньше. Слишком красиво, чтобы быть правдоподобным, но оказалось правдой.
Я лежал рядом с молодым мусульманином-французом, уже два воскресенья не появлявшимся в сортирном бараке, где я встретил его впервые. Я лежал рядом с Франсуа Л.
Я ведь все-таки узнал его имя, он сам мне сказал. И именно из-за этого я готов был скрежетать зубами и ужасаться насмешке судьбы.
Потому что Франсуа, который прибыл в Бухенвальд тем же транспортом из Компьеня, что и я — его лагерный номер совсем немного отличался от моего, — был сыном — естественно, мятежным, отвергнутым, но все же сыном — одного из самых активных и гнусных главарей французской милиции[34].
В случае чего, чтобы выжить, мне придется взять имя пронацистского ополченца.
Я повернул его к себе, чтобы посмотреть на его лицо.
Не только затем, чтобы не видеть его бедер, испачканных жидким, но теперь засохшим калом. Еще и для того, чтобы уловить возможное биение жизни, если можно назвать так это короткое, почти неуловимое дыхание, это слабое пульсирование крови, эти спазматические движения.