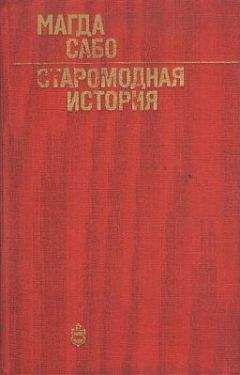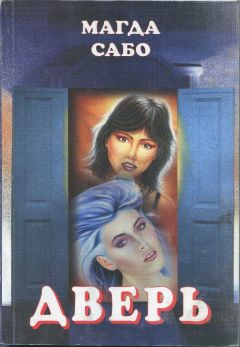Тони Хендра - Отец Джо
На ум мне пришло ужасное слово, оно эхом отозвалось в окружающей тьме: отчаяние. «Ты впал в отчаяние. Ты проклят. Отчаяние — непростительный грех».
Я молил тьму вернуть мне мою веру. Но тьма безмолвствовала В ней не было никого, кто бы откликнулся на мой призыв. Какой-то замкнутый круг — молиться в никуда о вере в ничто. И я попал в этот круг, мне не выбраться из него.
Я остался один. Никогда еще я не ощущал такого одиночества, одиночества вселенского, одиночества в своей вселенной; меня не отпускало жуткое подозрение в собственном не-существовании. Я испугался еще больше.
Однако вмешалась логика; чтобы задаться вопросом «А существую ли я?», нужно в самом деле существовать. Но я еще больше пал духом, вспомнив о том, что буду существовать дольше самого себя и своей жизни, что существование мое не кончится со смертью, а продлится в вечности, ограниченное небытием Бога, заключенное в темницу самого себя без права досрочного освобождения.
Кто или что бы там ни украло мою вечную свободу, вместе с ней оно украло и мою мечту стать монахом. При падении она тоже разбилась — осколки уплывали в необозримом пространстве, их было уже не достать. Я осознал потерю мгновенно, и она отозвалась во мне щемящей тоской — как будто на глазах у меня убили самого дорогого человека, еще секунду назад полного жизни и такого реального, а теперь молчаливого и безжизненного. Кто совершил эту жестокую бессмысленность? Может, я? Может, я сам виноват в собственном разрушении?
Не знаю, сколько времени я провел на коленях рядом с кроватью, на верхнем ярусе которой виднелись очертания мирно сопевшего брата, — меня охватывал то дикий ужас, то полный паралич. Внезапно в глаза ударил солнечный свет — наступило утро. Я так и спал — сидя на коленях. Кровать брата была пуста, снизу доносились крики матери.
Боль утраты тут же вернулась и молотом ударила по голове. С болью пришло и осознание того, что я проспал на целый час. Может, вселенная и существует без Бога, надежды или веры, однако она определенно вмещает в себя пузатый зеленый автобус, изрыгающий клубы выхлопов во время езды по тихим улочкам Хартфордшира — в нашем городишке, от которого до школы три четверти мили, он должен был появиться ровно через двенадцать минут. Я умылся, оделся, схватил учебники и помчался со всех ног.
Расхожее мнение о том, что бездумная деятельность отвлекает ум от неприятных мыслей, — сплошная ложь. Находясь в прокуренном автобусе, посреди хихикающих розовощеких школьниц в серой униформе, я в полной мере прочувствовал свое поражение в вечной битве со смертью: на одной стороне находился я со своей парализованной волей, на другой — бесконечные сомнения, глумившиеся надо мной. Экзистенциальная агония ночи прошла, теперь меня со всех сторон обстреливали силлогизмами совершенно особого свойства: «Бога не существует. Следовательно, Христос не был Богом Он был глупцом, который дал убить себя ни за что ни про что. Он был „пустышкой“, скользким торгашом, которому грош цена». И эти антихристовы ракеты выстреливали одна за другой.
Автобус шел полчаса, и все это время битва ни на минуту не стихала; я пытался отогнать сомнения, бормоча вполголоса «нет, нет, нет», мотая головой и сжимая кулаки. Рядом со мной сидела полная дама в скромном пальто и старомодной шляпке с перьями, прилепленной набекрень к ее завитым волосам; похоже, она заметила гримасы и бормотание подростка по соседству, однако, когда я во время передышки посреди сражения поднял голову и глянул в окно, эта воспитанная дама смотрела перед собой с застывшей на губах улыбкой. Ну да, конечно, — нехорошо ведь пялиться на умственно неполноценных. Они, бедняги, не в силах совладать с собой.
За окном автобуса вовсю разгоралось весеннее утро, проносились волны цветущего боярышника, воздух был напоен птичьими трелями, из липких почек появлялись цветки, образуя величавые, подобные белым облакам галеоны, проплывавшие на фоне голубого неба.
Невозможно описать тот зеленый цвет, в который одевается Англия весной, ту взрывную массу растительности, тончайшее равновесие между сельской простотой и безудержным буйством новой жизни. В весеннюю пору Англия отбрасывает свойственную ей язвительную иронию, мрачную двусмысленность и промозглую злопамятность — цветущая страна наполняется чистой, ничем не замутненной энергией. Автобус катил по этой обновляющейся земле, но меня сверлила одна мысль — я не могу позволить себе умереть. В этом теперь враждебном и смертельно опасном в своей непредсказуемости мире я мог запросто умереть, точно так же, как недавно умерло все, во что я верил.
А смерть будет означать проклятье.
К тому времени, когда автобус наконец доехал до школы, я совсем обессилел. Невозможно держать оборону против таких сильных врагов, как сомнение и отчаяние после бессонной ночи, да еще и на голодный желудок. В классе царило веселье — закончились пять долгих лет учебы, экзамены позади, а впереди — летние каникулы. С нас уже не так строго спрашивали, да и задания на дом почти не задавали. Все пребывали в состоянии легкой эйфории; я и сам был таким же всего двадцать четыре часа назад. Теперь я то презирал своих одноклассников за их приземленность, ограниченность ума и глупость, то завидовал им, не имея возможности принять участие в их приземленных, ограниченных глупостях.
У меня никак не получалось отделаться от видения — как я, здоровый, спортивный парень вдруг падаю и начинаю хрипеть. Как я лежу, судорожно хватая воздух ртом, и молю озабоченно склонившихся надо мной протестантов о священнике. Который даже если и прибывает вовремя, не может отпустить мне, умирающему, грехи.
Я вспомнил случай, который произошел год назад и которому я не придал никакого значения, — один мой одноклассник вдруг умер во время игры в регби. Он пробежал все поле, успел сделать бросок и упал замертво. Оказалось, у него была редкая легочная болезнь, но ее симптомы ни разу не проявлялись. Тогда случай показался мне любопытным, да и только — к сожалению, в школьном возрасте многое представляется всего лишь любопытным. Теперь же смерть одноклассника послужила лишним подтверждением невероятной хрупкости жизни.
В тот день наша команда должна была соревноваться в плавании с командой другой школы. Я не мог пропустить соревнования, поскольку был капитаном сборной, однако думал о них с ужасом. Бассейн казался мне тем самым местом, в котором запросто может случиться непоправимое. Наши соперники представляли собой жалкое зрелище — сплошь щекастые толстяки — их как будто подбирали с расчетом, что на старте после нырка они непременно вынырнут, а не пойдут ко дну. Я в нашей команде был, что называется, «верняк» по части стометровки брассом, однако во время второго заплыва со мной приключился особенно острый приступ — я закрыл глаза, пытаясь отогнать наваждение, и врезался в бортик бассейна. Весивший в два раза больше парень легко опередил меня.
Дорога на автобусе домой оказалась еще хуже, чем утром. Приступы немного ослабли, но их сменила такая глубокая, всеобъемлющая и необоримая тоска, что я испытывал физическую боль. Сойдя с автобуса, я побрел домой мимо цветущих изгородей и местной церквушки. Церквушка всегда была для меня желанным местом, ее теснота казалась такой уютной — надежная точка опоры в повседневности моей жизни. Еще вчера я заглядывал в церковь, дабы перекинуться парой слов со Святым Причастием Но… теперь?
В светлый год моей жизни ощущение истинного присутствия[19] как непосредственного соприкосновения с божественным стало одним из самых радостных открытий. Я не только верил в это учение; стоя у дарохранительницы, я чувствовал постоянство принимаемого за Иисуса существа так явственно, как нигде и никогда больше. Это не было присутствием человека, скорее, чем-то безличностным или, вернее, надличностным, выходившим за пределы ограничений человеческой личности и все же остававшимся в церкви, наполнявшим ее собой. Порой я растворялся в молитве, и тогда присутствие становилось таким ощутимым, что я буквально выбегал из церкви, иначе оно перехлестнуло бы через край.
Теперь церковь показалась мне уродливой, лишенной основательности, опасной. Что еще подстерегает меня внутри?
В действительности же — ничто. Это ничто мрачной тучей нависло над дарохранительницей. Ничто расселось на алтаре как на чемоданах с вещами, упакованных и готовых к отправке. Ничто торжествующе пялилось на меня со стропил, кафедры, скамей, алтарной ограды. Церковь сделалась пустой, серой и холодной.
Что со мной будет, к кому обратиться? К родителям? Бесполезно. Еще меньше толку от отца Смога, который как раз сейчас в своем доме приходского священника опрокидывает первый за вечер стакан виски. Бен и Лили уехали. Оставался только один человек, но он находился далеко, в четырех-пяти часах езды, а было без малого шесть.