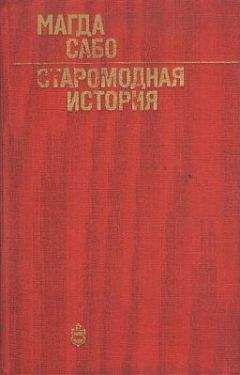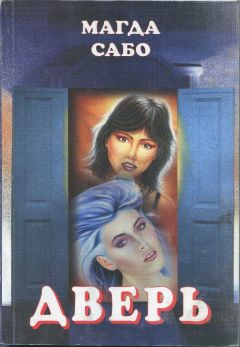Тони Хендра - Отец Джо
— Тони, дорогой мой, все, что нам необходимо знать — вот оно. Господь любит нас, окружая такой красотой; Господь любит свои творения, свой прекрасный василек. В течение миллиардов лет красота существовала для одного лишь Господа, прежде чем появились мы. Красота существовала ради самой себя, in idipsum.[16] Порядок и гармония; дорогой мой, посмотри на синеву этих лепестков, она точь-в-точь как синева летнего неба.
Отец Джо протянул руку с васильком вверх — лепестки действительно оказались одного цвета с небом.
— Как возможно существование такой красоты без Господа? Не будь его, не было бы ничего этого, разве не так?
Я тогда подумал: а ведь и в самом деле, все, что мне необходимо знать — вот оно: восторженный взгляд прищуренных за древними линзами глаз, огромный, подвижный нос с торчащими из ноздрей волосками, губы, похожие на гутапперчевые, растянутые в улыбке над кружочком синего неба в руках. Вот каким должен стать я — таким же чистым и незамутненным, таким же настоящим и живым.
Помню, как однажды отец Джо с мальчишеским озорством во взгляде признался, что иной раз ему здорово наскучивают псалмы:
— Понимаешь, каждую неделю мы должны проговаривать все сто пятьдесят псалмов. Они, конечно, замечательные и наставляют нас в жизни, но этот старый псаломщик, ну ей-богу, бывает таким брюзгой: «О Господи, сегодня у меня нет ну никакого настроения, никто меня не любит, и в довершение ко всему я страшно натер ноги. О Господи, услышь мой глас из глубин… Господи!.. и сделай так, чтобы не болели ноги… пожа-а-алуйста… (Поет) Ами-и-инь».
Или что как-то он прокрался после ужина на кухню и зачерпнул себе еще пудинга — против всяких правил святого Бенедикта, — а еще прозевал проделку одного молодого послушника, потому что счел ее смешной.
При этом все свои признания отец Джо сопровождал неизменным: «Т-т-только не говори отцу настоятелю!»
Помню, как однажды отец Джо толковал мне смысл фразы contemptus mundi, дословно означавшей «презрение к миру» — я в нее буквально влюбился, абсолютно и безоговорочно.
— Но, дорогой мой, означает ли contemptus «презрение»? Конечно же, нет. Презрение подразумевает гордыню, собственное превосходство, высокомерие. То, что мы считаем мирским, на самом деле всего лишь имеет изъян или видится через треснувшее стекло очков. Несовершенно или несовершенно понято. Нам ли судить о презренности вещи или человека, существующих по воле Господа? Все, каким бы несовершенным ни было, имеет свое назначение.
— Нет, Тони, нет, дорогой мой… contemptus mundi означает именно «отстраненность от мира», отношение к миру sub specie aetemitatis.[17] Который либо стоически переносят, либо радостно славят, но ни в коем случае не забывают, даже когда он кажется совершенным и вечным — в Библии по этому поводу говорится: «Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек».[18]
Помню, как однажды отец Джо резко возразил в ответ на мою восторженную, полную благочестивой чепухи тираду насчет святости общины и ее высокого назначения:
— Господь с тобой, дорогой мой! Мы же не старые, выжившие из ума попы, день-деньской талдычащие молитвы. Нам ведь есть чем заняться!
Помню, как я тогда рассмеялся, хотя и не без замешательства. Но потом понял, что подобные высказывания были как раз в духе отца Джо, не страдавшего напыщенным благочестием, мыслившего как человек, прочно стоящий на земле и обладающий невероятной широтой взглядов на вещи обыденные. Что бы он ни сказал, оно исходило из глубокого колодца великодушия. Отец Джо сам вырыл этот колодец и наполнил его до краев за те десятилетия созерцания, в течение которых постигал людей. И какие бы изъяны, оправдания или причуды ни были свойственны людям, какими бы скучными люди ни казались, он любил их от всего сердца. И его всепроникающая мягкость происходила из непосредственных суждений о мире и своей задачи в нем. Которой была любовь.
Помню, как однажды я присутствовал на утренней мессе в монастырской крипте и золотисто-оранжевые лучи восходящего солнца пробивались через узкие прорези оконцев. Та самая крипта, вместилище кошмаров моего первого дня пребывания в аббатстве, на самом деле оказалась местом священных таинств, катакомбой, пещерой волшебника Мерлина, перешедшей к христианам, вертепом, непостижимым для человеческого понимания. Омываемые золотистым сиянием священнослужители шептали молитвы у алтарей, каждый из которых был освещен двумя свечами. Я встал на колени рядом с отцом Джо, на этот раз облаченным в белую с красным ризу (единственный раз, когда в нем можно было узнать католического священника); преображенный священник, закрыв глаза, шептал каждое латинское слово наизусть (хотя молитвы и менялись каждодневно), смакуя их растянутыми в улыбке губами, которые сжимались и разжимались — он как будто с наслаждением вкушал вино.
Во время второго или третьего приезда в аббатство я начал знакомиться и с остальными монахами. Мое первоначальное впечатление единства, даже безликости монастырской братии оказалось ошибочным. Аббатство приютило монахов со всех уголков мира: учтивого, со светскими манерами и неистребимой привычкой к курению бывшего банкира из Вены (поговаривали, будто он — еврейский выкрест); нестареющего, энергичного карлика из Мальты, смуглого как конкер; наезжавших время от времени итальянцев; одного-двух немцев; толпы французов; высокого полного монаха с безупречным британским произношением, похожего на члена кабинета министров в передаче о программе защиты свидетелей, который буквально разрывался между аббатством и Лондоном, где пропадал с какими-то загадочными поручениями, имевшими отношение к иезуитам и кардиналам…
На вторую Пасху — мою годовщину — я пробыл в Квэре уже все две недели школьных каникул, и отец Джо начал потихоньку знакомить меня с настоящей монастырской жизнью. Центром которой, на его взгляд, были сами братья.
Братья выглядели анахронизмом уже тогда, в пятидесятые. Согласно монастырскому Уставу, они не обязаны были посещать долгие церковные молитвы — их призванием была гораздо более практичная сфера деятельности — и не принимали сан. (Отсюда и «братья» вместо «отцов».) Большинство из оставшихся в аббатстве братьев были из Франции и к тому времени уже порядком состарились, поскольку вступили в орден еще подростками в конце девятнадцатого века. В начале двадцатых годов, когда религиозные ордены изгонялись из Франции, братья перебрались в Британию. Каждый трудоспособный монах выполнял физическую работу, но священники, составлявшие в аббатстве большинство, делили свое время между трудом физическим и занятиями более интеллектуального толка — наукой, музыкой, сложными ремеслами… Братья же привлекались в основном к тяжелой работе. Отец Джо, будучи наставником братьев, особенно привечал стариков, считая, что те — святые, хотя без конца подшучивал над говором этих нормандских и бретонских крестьян. И когда я приставал к отцу Джо с просьбами дать мне какую-нибудь laborare, чтобы я мог orare, он поручал меня заботам брата Луи, лесоруба.
Брату Луи было не то семьдесят пять, не то восемьдесят пять — сам он не помнил, ну а другие и подавно. Старик не отличался высоким ростом, он совсем облысел — голова по цвету и форме напоминала огромный лесной орех — руки казались короткими, не длиннее ручек от сковород, уступавших им, однако, в крепости. Едва ли я встречал в своей жизни человеческое существо более сладкой наружности: у старика выпали все зубы, и он все время растягивал губы в ангельской улыбке. Но улыбка его не была улыбкой невинного младенца или юродивого; к безмятежному взгляду пронзительных старческих глаз примешивалась печаль, будто бы приобретенная за время долгого, полного страданий путешествия, окончившегося покоем.
Шла весна; в могучей дубраве повсюду распустились пролески. Ярко синело небо, глаза слепило от солнца отражавшегося в серебристо-зеленых, только-только нарождающихся листьях. Брат Луи дал мне тяжелый, изогнутой формы старый французский топорик и, улыбаясь, с помощью жестов терпеливо объяснил, как срезать боковые побеги одним косым взмахом поближе к земле. Он срезал побег легко, будто тонкий прутик, и передал топорик мне. Я примерился к побегу гораздо меньшей толщины и взмахнул, но только поцарапал кору.
Брат Луи отвернулся — то ли оттого, что счел один урок достаточным, то ли из милосердия к моим жалким потугам. Согнувшись в три погибели, низенький, смуглый монах размеренным шагом двинулся между дубов, одним взмахом отсекая побеги гораздо толще того, который срезал в качестве примера. Когда топорик рассекал древесину, слышался глухой, но отчетливый лязг. Я начал с тонких стволиков, не толще веток, и вскоре набил руку, постепенно подбираясь к побегам посолиднее. Мы оба, мальчишка и глубокий старик, в течение двух часов молча трудились посреди величественной дубравы, и все наше общение состояло из ритмичного лязга топорика монаха и сбивчивого клацанья моего. В полдень зазвонили в колокола; монах распрямился и склонил голову. Я догадался, что он шепчет «Ангела Господня» — полуденную молитву в поле; католики-земледельцы соблюдают обычай, которому уже более тысячи лет. Я тоже склонил голову и последовал примеру монаха — счастливый, умиротворенный, почти что монах.