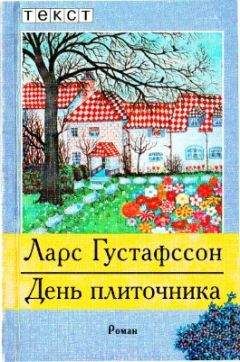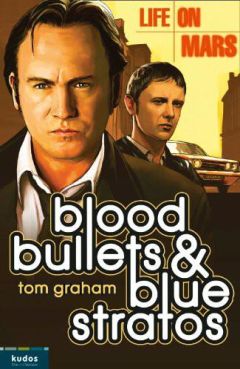Ларс Кристенсен - Посредник
– Не осмелюсь? Это почему же?
– Во всяком случае, собирался ты чертовски долго.
– А куда спешить?
– Как куда, храбрец? Она ждет возле купальни.
– Кто?
– Кто? Ты что, приперся глазеть на меня, красавчик?
– Я не глазею.
– По-твоему, тут глазеть не на что?
– Почему? Много на что можно поглазеть.
– Вот как? Чрезвычайно убедительно. Присмотрись получше, поэт. Ради меня.
Лисбет шагнула ближе и выпятила грудь, бесстыдно и в то же время застенчиво. Я отпрянул, поскольку не хотел впутываться в это, что бы это ни было. Она только что назвала меня поэтом?
– Твоих родителей здесь нет?
– Нет. А что? Они еще вчера уехали. Ты что-нибудь натворил? Требуется приговорчик?
– Вообще-то, нет. По горло сыт проповедями.
– Черт, Чаплин. Разговаривать с тобой все забавнее. Надо нам почаще общаться.
– С тобой тоже. Возле купальни, говоришь?
Лисбет кивнула в сторону фьорда:
– Вон там, дорогуша. Как замочишь ноги, считай, ты почти на месте.
– Отлично.
– А поймаешь ртом водоросли, значит забрался слишком далеко.
– Спасибочки. Очень мило с твоей стороны.
– Не стоит благодарности, красавчик. Веди себя хорошо.
Я пошел в ту сторону, куда указала Лисбет. Внезапно лес кончился, высокие сосны расступились, я вышел к береговым скалам и остановился. Мне почудилось, будто из одного мира я шагнул в другой. Расстояния исчезли, остались только во мне. Этим летом каждый день был дверью, которая скользила вбок, и я не имел выбора, поневоле шел вперед. Она сидела лицом к воде, на мостках возле купальни. Влажные волосы облепили плечи. Я видел блестящие капли на ее коже, секунду казалось, будто ей холодно, она завернулась в желтое полотенце. Это от меня повеяло холодом? Она заметила, что я стою и смотрю на нее? Я пошел к ней, стараясь, чтобы под ногами хрустели ракушки. Не хотел появиться чересчур неожиданно. Наконец она обернулась и вроде как не особенно удивилась, зато удивление изобразил я:
– Ой, это ты?
– Как видишь.
– Вода холодная?
– Прохладная.
Я сел рядом. Отсюда был хорошо виден город. Даже слышны куранты на башнях Ратуши – так близко мы находились, и за то короткое время, какое звукам требовалось, чтобы долететь до нас, они искажались и дрожали, под конец напоминая звон коровьих колокольцев под водой; я не то чтобы слышал раньше такие колокольцы под водой, но это сравнение показалось мне наиболее подходящим. Прожорливые чайки чистили клювы на солнышке и крикливо ссорились из-за мусора, который плавал в зеленой воде отлива – там кверху брюхом, размахивая клешнями, лежал краб. Мне хотелось одного – взять полотенце с плеч Хайди, стереть гусиную кожу и руку уже не убирать.
– Ты принес стихотворение? – спросила она.
– Да нет. Ну, в смысле, я еще не вполне закончил.
– Обещаешь прочесть мне? Когда закончишь?
– Ясное дело. Слово есть слово.
Она засмеялась, и я смутился. Если вдуматься, в то лето почти все смущались. Логичнее было бы наоборот, тем летом, когда люди покорили Луну, всем следовало бы задаваться. Однако ж нет. Что я говорил вот только что? Слово есть слово. Сказал так, будто продолжу: в горе и радости, пока смерть не разлучит нас и прочая и прочая. Иначе говоря, разговор забуксовал. Вообще-то, просто посидеть без трепа тоже хорошо, может, даже лучше, просто я так устроен, что не выношу молчания в присутствии других. В одиночестве я люблю тишину, прямо обожаю, часами могу сидеть один, не говоря ни слова, но вместе с другими, особенно с этой девочкой, с Хайди, тишина нестерпима.
– Ты читала «Моби Дика»? – спросил я.
– Только слыхала про него.
– Тогда тебе надо прочесть. Там про шестнадцатитонного кита-альбиноса, которого никто не может поймать.
– Кит-альбинос. А такие бывают?
– А то! Белый кит. Их немного. Может, вообще один. Если пересчитать. Зато этот один доживает до глубокой старости, понимаешь? Можешь взять у меня. Книгу, я имею в виду. Не кита. Если хочешь. Я тебе с удовольствием дам.
Я вдруг заметил, что Хайди смотрит на меня и пытается спрятать улыбку в одном уголке рта, в правом, но безуспешно; наверно, она сидела так все время, пока я работал на холостом ходу, заполняя Осло-фьорд туманом и выхлопом.
– Кстати, насчет белого кита, – сказала она. – Тебе не мешает немного подзагореть.
– Писатели не загорают.
– Да?
– Они умываются уксусом.
– Поэтому тебя прозвали Чаплином?
Тут я потерял нить разговора, надо хорошенько обдумать, какая связь между китом-альбиносом, писателями, уксусом и Чаплином, ведь даже я, местный чемпион по части метафор, и то смутился, смутился еще сильнее. Она что, испытывает меня? Да, наверняка. Испытывает. Я на высоте по части устных метафор. И вдруг расслабился, совсем расслабился, сам не знаю почему, расслабился, и все, оттого что сидел с душевной подругой в тихом уголке лета. Разве нельзя сказать все так, как оно есть? А если я скажу, она, может, вознаградит мою честность, может, я сумею подружиться с ней не только душой.
Я показал на свою правую ногу:
– Я родился ногами вперед.
– Вон как.
– Это большая редкость. Один раз на сто тысяч. Может, и больше, то есть меньше. В общем, большая редкость.
– Надеюсь. Я имею в виду матерей.
Кажется, она восприняла это не слишком всерьез.
– Я мог стать косолапым, – сказал я.
Сказал и сразу же пожалел. Косолапость не то, чем можно похвастаться. Надо действовать энергичнее.
– Мог заработать и кое-что похуже. Знаешь, когда пальцы на ноге скрючиваются узлом и разделить их невозможно. В худшем случае мне бы ампутировали обе ноги. К счастью, обошлось. Сама видишь.
– Обе?
– Обе. В лучшем случае одну. От колена.
– И поэтому они прозвали тебя Чаплином?
– Нога, видишь? Она стоит под углом. Как у Чаплина, верно? Только у него оба ботинка шли вкось. А ты как думала?
– Я думала, потому, что ты похож на черно-белый фильм.
– Но я же не немой, – сказал я. – По-твоему, мне надо завести тросточку?
Хайди хихикнула, улеглась, солнце осветило ее целиком. Знала бы она. Знала бы она, что именно сейчас сказала чистую правду.
– Ты забавный, – сказала она.
– Ты уже говорила. Что значит «забавный»? Тупой? Недоумок? Отсталый? Медлительный? Неандерталец?
Она ждала, пока я одолею деревянную лестницу в словарь.
– Просто другой, Крис.
– Я уже говорил, зови меня Фундер, Умник.
– Ладно, Умник. Просто чуть-чуть другой.
– Чуть-чуть?
Теперь я мог быть еще правдивее, чем Хайди. Решение за мной. Я добровольно показал ей свою ногу. Мог продолжить и показать ей вмятины, придать этому слову новый смысл. Но не рискнул. Не рискнул опрометчиво испортить то, что начиналось. Этим летом здесь, на узких мостках возле купальни, такое недопустимо. Я не хотел портить радость, ожидание, обратную волну надежды – безнадежно огромной надежды, будто жизнь, да-да, сама жизнь, дамы и господа, тяжелым грузовозом скользила мимо и тянула нас за собой или на дно. Сказки не должны начинаться словами: Давным-давно… Лучше так: В нынешнее время… Или еще лучше: Когда-нибудь… Я снял рубашку, а на желтом полотенце хватило места нам обоим. Вот тогда-то я понял свою внутреннюю суть, если она у меня есть, там внутри, а именно: я не хотел быть другим. Хотел быть заурядным. Если вдуматься, я хотел быть заурядным. Не хотел, чтобы моя суть поднимала вокруг себя шум. Мы лежали так близко, что я чувствовал прикосновение ее бедра и плеча. Расстояние между нами образовывало чашу, которая при малейшем движении заполнится или разобьется. Я накрыл ладонью руку Хайди, она не противилась. Первый шажок сделан, но впереди еще долгий путь. Тут я услыхал, что сквозь тучи чаек приближается моторка. Мы оба тотчас сели. Конечно же, это Путте и его шайка. К сожалению, они не пошли ко дну возле Стейлене. Один – ноль в пользу треклятой реальности. Все они стояли в лодке и швыряли пустые бутылки в море или в чаек, что по большому счету одно и то же. Пора мне себя показать.
– Прекратите! – крикнул я.
– Здоруво, Бледнолицый!
Бледнолицый? Новое прозвище, едва я начал привыкать ко всем прочим?
– Бледнолицый? Это еще кто? Я никого не вижу!
– Ясное дело, ты до того бледный, что скоро совсем прозрачным станешь. А кстати, ты нынче рыбачишь с жестянкой или без?
– Очень смешно.
– Поймал что-нибудь, а, Бледнолицый? Или только клюет маленько?
Хохот, хохот. Самодовольный хохот. Как я ненавидел и презирал этот хвастливый хохот, какой некоторые позволяют себе, когда вообще ничего смешного нет. Но Хайди не смеялась. А значит, все это не имело значения. Пускай хохочут сколько влезет, пока Хайди не смеется. У меня чуть ноги не подкосились.
– Прекратите! – повторил я.