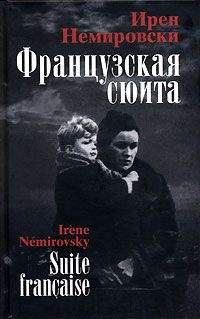Ёран Тунстрём - Сияние
Как Гёте, так и Йоун ур Вёр.
Ах, какая тишина объяла в то утро исландские дома. Это стихотворение знали и любили поголовно все, но повод! Поскольку же дикторша мешкала, тишина затягивалась, пожалуй, это была чуть ли не самая долгая пауза на исландском радио. Население перестало дышать, людские души с легким шорохом выпорхнули изо всех окон Рейкьявика, Акюрейри, Боргарнеса и устремились к ближайшему берегу, внимая этому безмолвию — безмолвию матросских вдов, детей и стариков, которое приходит, когда шум лодочных моторов смолкает вдали. На всех пляжах теснились души, две минуты, три. Обкатанные гальки ласково поглаживали друг дружку на мелководье, собачьи носы водорослей высовывались на поверхность и лениво покачивались среди синевы, и все души сияли улыбкой.
Увы, последующие телефонные звонки только еще больше раззадорили отца. Да, здесь необходимо читать стихи. Совет, утверждающий программы, после некоторых колебаний дал согласие. Директор радиостанции сказал, что если стихи имеют касательство к рыбе «как таковой» — он с легкостью философствовал по всем вопросам, — то он возражать не станет, чем крайне удивил присутствующих. Пока его секретарша Гвюдрун не пояснила, что директорский «энтузиазм» связан со звонком епископши[59], тетки Гвюдрун по отцу, которая сказала ему, что Халлдоурово начинание просто очаровательно и облагородило передачу. А ведь верно. Епископша обычно слушала сводки из рыбного порта. «Слыша голос Халлдоура, я словно воочию вижу море. И рыбу, что плещется в волнах».
Слышала, видела или чувствовала? Звонок епископши, безусловно, произвел впечатление на директора радиостанции, однако:
— Стихи не должны быть слишком длинными. А современные стихи обычно длинноваты, верно?
— Наоборот, — возразил Халлдоур. — Скорее, коротковаты.
— Вот именно, — сказал директор. — Вообще-то я имею в виду, что… ни в коем случае нельзя упоминать про утопленников.
— Ты о Шекспире? «Вместо глаз — жемчуга…»[60]
— Никаких утопленников, — повторил директор.
Целых полгода отец превосходно справлялся с задачей декламации стихов о «рыбе как таковой» — хотя толика ее и оказывалась в траве на берегу. Однако ж рано или поздно любой сундук поэтических сокровищ пустеет, и отец, который давно это понял, вечерами все больше мрачнел. Он решился взвалить на себя тяжкое бремя стать поэтом.
Многое можно сказать о поэзии и о том выражении, какое она находит в стихе, — эта маска, укрывающая от пустоты, это чудесное доказательство щедрого величия всякого человеческого труда. Поэзия созидает мир, ибо лишь в наречении имен мир обретает зримость. Через посредство языка он начинает двигаться, становится процессом, в котором мы все участвуем. Подлинная поэзия наделяет мир новыми масштабами. Зовет нас в странствия, но и влечет спокойно осваивать таинственные континенты души, ведь, как я где-то вычитал, она есть прежде всего труд любви.
Теперь же необходимо сказать вот что: поэтическое творчество, которое начинается с языкового мятежа, в моем отце приверженца не имело. Он не был мятежником. Он щелкал пальцами, и слова, бесцветные, как члены приходского швейного кружка, входили в гостиную и укладывались у его ног — солидные дамы из швейного кружка, — временами преданно на него поглядывая. Нет, его слова не были крупными фигурами. Они, конечно, рифмовались друг с другом, да и почему бы, собственно, не зарифмовать свою пригрезившуюся жизнь, свои несуразные любовные усилия? Ведь рифма — вроде как таблетка от головной боли: когда размер соблюден и «сердец» встречается с «наконец», а «звезда» — с «всегда», напряжение зачастую отпускает. Ну а что отцов поэтический метод был эклектичен, не составляло тайны даже для него самого. Он писал в твердой уверенности, что, включая в свои стихи лучшие метафоры мировой поэзии, оживляет их и осовременивает. Так что вполне можно простить родному отцу его стихи, с поэзией они имели весьма мало общего.
Когда-то в школе я слышал историю о голландском мальчике, который жил в приморском городке, совсем рядом с мощными защитными дамбами. Однажды, играя у дамбы, мальчик заметил дырочку, из которой сочилась вода, и смекнул, что море будет размывать дырочку, пока не проломит дамбу и не затопит все вокруг. Поэтому он заткнул дырочку пальцем и простоял так всю ночь, пока не рассвело и народ не отыскал маленького героя, полумертвого от усталости, но бесстрашного, не вынувшего палец из отверстия. Я не раз вспоминал в то время эту историю и понял, что отец не сумел выстоять против своего моря.
Оно прорвало-таки его дамбу в тот миг — а может, это случилось еще накануне вечером, — когда он, усиленно модулируя проржавленным голосом, сообщил, что прочтет свою новую оду «Курбе, „Источник жизни“».
Есть у Курбе такое полотно,
Что будит к женщине во мне желанье,
Чье тело кистью запечатлено, —
«Источник жизни» — вот его названье.
Ее уста сияют точно знамя
На белизне лица — и я уже готов,
Священное в себе почуяв пламя,
Ввести язык свой в зал ее зубов.
Под горделивой шеей набухают
Литые купола ее грудей;
Блаженство, верно, руки там узнают
В одном стремленье — быть покорным ей.
Но вот, я чувствую, пришел уже черед —
Вскипела ведь до крайней точки кровь —
Губами жадными ласкать ее живот,
Малышку возбуждая вновь и вновь.
Пусть стыд меня развратником ославит —
Мой корень крепкого напора не оставит
На влажный грот твой, теплый и тугой,
Укрытый мягкой чрева пеленой.
О женщина, жди меня под вечер…[61]
В коридоре радиостанции царило безмолвие, когда отец вышел из студии. Двери были закрыты, магнитофоны отключены — будто перед землетрясением, когда листья на деревьях не шелохнутся, когда собаки припадают к земле и не понять, где верх, а где низ. Но отец тихонько посмеивался, скобки, скреплявшие его психику с телом, разошлись, теперь было одно лишь хихиканье.
В конце коридора, под табличкой «Выход», стоял директор, а за спиной у отца опять открывались двери, одна за другой, будто Чермное море пропустило его «аки посуху», а сейчас волны вновь сомкнулись.
— Здоро́во, старина! — Отец весь сиял благодушием.
— Халлдоур, как ты себя чувствуешь? Только честно!
— Лучше не бывает. А ты?
— Спасибо, хорошо, но… речь сейчас не об этом. Я насчет… стихотворения.
— Что, слишком длинное?
— Да нет, не в том дело…
— Слишком непонятное? По-моему, с понятностью пора кончать. Нынче на ней далеко не уедешь.
— Халлдоур, давай говорить серьезно. Я не потому, что сам… как бы это сказать… ханжа. Но телефоны-то звонят.
— Епископша звонила? — Халлдоур светился надеждой.
— Нет, не звонила. Пока не звонила. Телефоны заблокированы. Ты понимаешь, Халлдоур? Во-первых, стихотворение не имело никакого касательства к рыбному промыслу, во-вторых, этот откровенно эротический язык, который я лично вовсе не… ну, ты понимаешь…
— Вся поэзия эротична, — сказал отец. — А неэротичная поэзия просто застенчива. Подлинная поэзия откровенна, так что ода моя, видимо, удалась. По крайней мере, хоть немного. Я рад, что ты воспринял мое послание.
— А я, — сказал директор, — буду рад, если ты воспримешь мое: ты преступил предел. И тебе необходимо хорошенько отдохнуть.
~~~
Именно в психиатрической лечебнице в Боргарнесе отец решил стать кандидатом в президенты. Мы сидели в общей гостиной, в зеленых джунглях комнатных растений, дождь со снегом стучал по темным ночным окнам, на кухне гремели столовыми приборами и посудой, кто-то в доме то выводил рулады, то неожиданно умолкал. Отец остановился перед большим аквариумом.
— Во всем содержится знание. То, о чем знаешь, существует. То, что видишь, зримо. Ты вот разбираешься в этих рыбках?
— Нет, — сказал я, не особенно прислушиваясь.
— Это пресноводный аквариум. Здесь есть несколько живородящих карпозубок, например гуппи, названные в честь тринидадского священника Р.Дж. Гуппи, скончавшегося в шестнадцатом году. Он прислал Британскому музею первый описанный экземпляр. Этих рыбок иногда называют «миллионками», наверно, потому, что они живут большими стаями. Питаются они личинками насекомых, и каждые двадцать четыре дня самочка производит на свет от пятнадцати до сорока мальков. Очень популярная рыбка, аквариумисты выводят все новые и новые разновидности. Существуют даже национальные объединения «гуппистов», которые устраивают выставки, где этих вот созданий оценивают по национальным и международным стандартам. Иногда с этими новыми разновидностями получаются осечки, часто они не размножаются, например, потому, что из-за больших плавников самцы не могут приблизиться к самочкам, или потому, что орган спаривания так разрастается, что не может функционировать. А вот взгляни на голубую рыбку в морском аквариуме. Это элопс, или монашка, только не спрашивай, откуда взялось такое название; он живет в дружбе с морскими анемонами, икру оберегает отец, точь-в-точь как я оберегаю тебя, лишь в самом крайнем случае они делают эту работу сообща, ведь это и вправду работа.