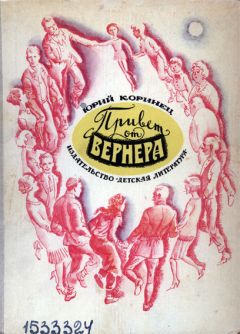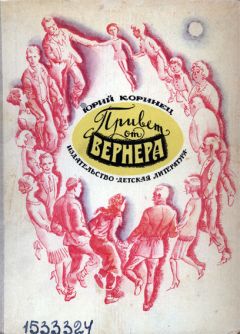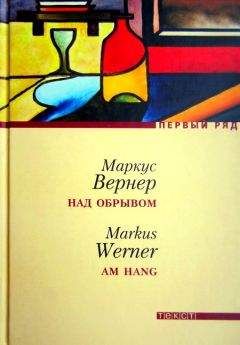Дитер Нолль - Приключения Вернера Хольта. Возвращение
— Учти только, я очень занят, а Гундель одной не справиться с книгами.
Гундель, Гундель! — думал Хольт. Пусть отец оставит Гундель в покое! Гундель его не касается. Не отец, а я нашел Гундель, когда ей было плохо, он тогда забился в нору и пересматривал свои взгляды.
— Не понимаю, чего ты вдруг от меня захотел! — зло сказал Хольт. — До сих пор тебе было в высшей степени на меня наплевать!
Профессор отложил замшу и стекла. Он заслужил этот упрек.
— Оставим прошлое, — искренне и тепло сказал он, — поговорим…
Но Хольт его перебил.
— Да, это ты не прочь, — воскликнул он, уже не сдерживаясь, так взбесило его замечание отца. — Оставить в покое прошлое — это вы все не прочь!
Но Хольт не намерен был оставлять прошлое в покое, нет, и он торопливо, хрипловатым голосом кидал обвинение за обвинением профессору в лицо.
О чем же еще говорить, как не об этом проклятом прошлом, куда Хольт был брошен помимо своей воли и не по своей вине!
— Кто из нас двоих выбирал Гитлера или хотя бы со стороны глядел, как он шел к власти? Не я же! Я тогда еще под стол пешком ходил! Пусть у меня тогда уже обозначалась «тяга к простонародью», но в фашизме и войне я никак не повинен! Меня ткнули в это дерьмо, меня с малых лет — вспомни-ка, вспомни! — пичкали болтовней о воинской доблести и Германии, Германии превыше всего! И кто, скажи, пожалуйста, оставил меня во всем этом дерьме и даже пальцем не пошевельнул, чтобы глаза мне открыть? Ты! Однажды я пришел к тебе за помощью и уехал в еще большем отчаянии…
Тут профессор прервал сына.
— Я тогда сказал тебе правду!
— Сказал! — повторил Хольт. — Швырнул, как швыряют собаке кость! Но швырять мне правду я не позволю и не позволю спихивать на меня разборку твоих книг. Поздно хватились, господин профессор! В свое время тебе, может, и удалось бы сделать из меня послушную собачонку, но тогда господину профессору не следовало рвать семейных уз, тогда господину профессору надо было думать не только о собственной достоуважаемой персоне, а хоть немножко и обо мне, и ты соизволил бы сохранить мне отчий дом…
Все. Нить оборвалась. Хольт обшарил все карманы, но сигарет не оказалось. Профессор пододвинул свою пачку. Хольт закурил. Профессор сидел молча, обхватив голову руками.
— Ты во многом прав, — сказал он наконец. — Поговорим обо всем, когда оба будем спокойнее. Я вовсе не имел в виду далекое прошлое.
— А какое же? — спросил Хольт.
— Давай-ка сейчас лучше поговорим о будущем.
Но Хольту не хотелось лгать отцу в глаза, перед тем как уйти от него, и он настаивал:
— Так какое же прошлое ты имел в виду? Ага, недавнее! Что же случилось?
— Ты очень распустился.
— Распустился? То есть как?
— Мальчик мой, — сказал профессор, — давай лучше…
— То есть как распустился? — усмехнулся Хольт. — Почему ты мне прямо не скажешь?
Профессор наморщил лоб.
— Последнее время ты частенько напивался. Дважды вообще не ночевал дома…
Хольт с откровенной насмешкой уставился на профессора.
— Вот как, отец! Неужели ты в девятнадцать лет никогда не возвращался домой навеселе?
Профессор оторопел, но чувство справедливости одержало верх. Разве в студенческие годы ему не случалось участвовать в попойках?
— …а что касается тех двух ночей, — продолжал Хольт, — как, по-твоему, в последние годы, когда ты так старательно пересматривал свои взгляды, много ночей я бывал дома? Как, по-твоему, не могло случиться, что я и вообще-то не вернулся бы домой?
Профессор поднял руку.
— Я тебе даю… скажем, сорок восемь часов на то, чтобы принять мои условия. Во-первых, ты поступишь на работу, которую я постараюсь тебе подыскать. Во-вторых, подчинишься известной домашней дисциплине. В-третьих, порвешь всякие отношения с этим Феттером.
— А если я не приму твоих условий?
— Тогда ступай своей дорогой, — сказал профессор.
Хольт встал. Профессор тоже поднялся, ему удалось спокойно и твердо выговорить «тогда ступай своей дорогой», но сейчас он положил руку на плечо сыну:
— Вернер, мне хочется, чтобы ты остался. Я же тебе добра желаю, пойми!
Да, конечно, понять… Хольт угловатым движением высвободил плечо. Как это? Человек живет, чтобы познавать; это сказал Блом, чудак Блом, человек не от мира сего…
Когда-то и Хольт, совсем еще мальчишкой, пытался многое понять, почему, например, существуют на свете богатые и бедные, почему любовь в сказках прекраснее, чем в жизни, или почему нет мерила для добра и зла, для справедливости и несправедливости… Это было давно. Дурное тогда было время для ищущих, темнота, глаза завязаны. Кругом обман и ложь. И все было ошибкой, все, вплоть до сегодняшнего дня, до этой минуты.
Он надел пилотку, надвинул ее на лоб. И, круто повернувшись, вышел из лаборатории.
В подворотне стояла ручная тележка, на ней — большая оплетенная бутыль. Кто-то после работы поставил тележку сюда, загородив проезд. Семьдесят пять килограммов уксусной кислоты так оставлять нельзя. К двери вели всего три ступени, и Мюллер заглянул в коридор нижнего этажа. Огни всюду погашены. За окошечком сидел калека-вахтер и клевал носом, дожидаясь смены.
Мюллеру приходилось таскать мешки и по сто двадцать килограммов, в лагере он работал в каменоломнях, уж как-нибудь донесет. Он пододвинул бутыль на самый край тележки и еще раз прикинул расстояние до выступа стены возле крыльца, где можно поставить груз. Прислонился спиной к тележке, ухватился за одну дужку и нагнулся, бутыль качнулась ему на спину. Если баллон разобьется об асфальт, его задушит парами кислоты… Спокойно! Бутыль, соскользнув, легла ему на спину, и тележка разом приподнялась. Мюллер пошатнулся, но устоял на ногах. Одной рукой он держал баллон, а другой осторожно потянулся через плечо, но никак не мог поймать дужку. От тяжести у Мюллера подогнулись колени. Рука повернулась в запястье, и баллон начал съезжать.
В этот миг Хольт с крыльца бросился к Мюллеру и обхватил бутыль обеими руками.
— Отпускайте!
Мюллер отпустил. Тяжесть была такая, что Хольту показалось, будто внутри у него что-то оборвалось. Но в последнюю секунду ему все же удалось опереть дно бутыли о выступ.
Тяжело дыша, они глядели друг на друга.
— Без малого центнер, — проговорил наконец Мюллер.
— Я думал, она меня повалит, — ответил Хольт.
— Стопроцентная уксусная кислота, — сказал Мюллер. — Могло произойти несчастье.
— Да вы бы и сами благополучно ее спустили на землю, — ответил Хольт.
Оба рассмеялись.
— Спасибо! — сказал Мюллер.
Хольт посмотрел в сторону; на стертых каменных ступенях слюдяная блестка, сверкнув, отразила свет лампочки. Лицо его замкнулось.
— Не ожидали такого от буржуйского сынка, а?
— Вас кто-нибудь так называл? — Что-то вроде улыбки мелькнуло на лице Мюллера. — Эх, парень, — сказал он. — Вернер! Если б вы хоть немножко взяли себя в руки! Мы ведь хотим, чтобы вы были с нами!
Он сказал «мы». «Мы» обозначало не Хольта, а тех. Это были Гундель, Шнайдерайт, Мюллер, а он, Хольт, из этого «мы» исключался. И, чувствуя свою отверженность, Хольт отрезал:
— Мы с вами говорим на разных языках!
— Ваш язык нетрудно понять, — ответил Мюллер. — «Взревел наш танк», тут уж надо быть глухим.
— Это… это… — бормотал Хольт, — не я! Это мой приятель!
Мюллер повернул на заводской двор.
— Что вы, что ваш приятель, — бросил он через плечо, — оба вы деклассированные отщепенцы.
Хольт нащупал в кармане оставшиеся деньги. Зачем он понадобился вахтеру? Гундель была здесь, она может каждую минуту… Ему некогда. Только этого еще недоставало — встретиться сейчас с Гундель.
Он прибавил шагу. Свернул в первый же переулок. Не спал ночь, вот нервы и пошаливают, кажется, будто кто-то идет следом.
Танцевальный зал Неймана, бар «Вечный покой», его всегдашнее прибежище. Окунуться в бесшабашную, разгульную ярмарку жизни! Шум, толкотня танцующих пар. Свободный столик нашелся у самого входа, и тут же к нему подсела блондинка, навязчивая. За бутылку разбавленной сивухи Хольт выложил последние деньги. «Со мной выпить? Пожалуйста!» Хольт пил. Что это она спрашивает? Почему он такой грустный? Не будем говорить об этом! Он не грустный. Грустить будем потом. Он пил много, торопливо. Пусть лампы сегодня горят ярче. И вот уже пелена табачного дыма поднялась, шум отдалился. Он поглядел, кто это с ним рядом; может, окажется второй Мехтильдой. Все, что угодно, лишь бы забыться.
Гундель стояла у его столика. Бледная. Снежинки таяли на коричневом пальтишке, обращаясь в сверкающие капли.
Он, пошатываясь, встал.
— Пойдем, — сказала она. — Прошу тебя… Пойдем!
Хольт послушно пошел за ней. Он старался ступать прямо. На морозе ему стало как будто легче. Они шли по безлюдным улицам. Гундель уже знала о поставленном ему сроке.