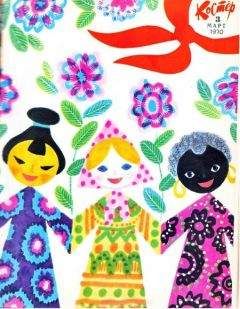Маркус Вернер - Над обрывом
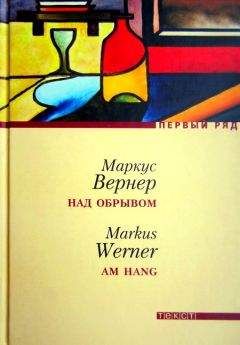
Обзор книги Маркус Вернер - Над обрывом
Маркус Вернер
Над обрывом
I
Все вертится. И вертится все вокруг него. Сдуру я даже вообразил, будто он бродит сейчас возле моего дома — с кинжалом или без. А между тем говорят, что он уехал, и я слышу только стрекот цикад, а вдалеке — ночной лай собак.
Вот уезжаешь на Троицу в Тессин, чтобы в тиши углубиться в историю законов о разводе, и вдруг наталкиваешься на этого незнакомца, этого Лооса, который ухитрился так взбудоражить меня, что всей моей собранности как не бывало. Да еще и Ева постаралась — сегодня, в «Кадемарио», — так что я вернулся сюда порядком растерянный и, поскольку нынче Троица, позвонил домой редактору «Юридической газеты», чтобы сообщить ему, что не могу сдать статью в срок. Острое воспаление лобных пазух, высокая температура: в общем, потеря трудоспособности, сказал я, сжав переносицу большим и указательным пальцами. «Мне даже слышно, как здорово тебя прихватило», — посочувствовал редактор.
Да уж, прихватило. Хотя лобные пазухи в полном порядке и температура нормальная, я все-таки мог бы придумать что-нибудь вроде воспаления гайморовой полости. Во всяком случае, виски, которые я сжал, чтобы унять ломоту, были горячими, словно нагрелись от лихорадочной сумятицы мыслей.
Сейчас хорошо бы соснуть, стряхнуть с себя этого Лооса, его слова, которые прилипают к тебе, как ворсинки, счистить их щеткой со своего мозга. Он сам мне сказал: «Постарайтесь забыть, не то сойдете с ума». Видимо, ему это знакомо. А еще он сказал (правда, в другой связи): «Из всех болезней нынешнего времени забывчивость — самая коварная, а значит, самая опасная».
Ладно, так или эдак, я не отделаюсь от этого человека, просто приказав себе больше о нем не думать. От этого он станет еще шире, а мое самосознание совсем сузится.
Мне знакомо это с тех самых пор — тому минуло уже пятнадцать лет, а мне тогда было двадцать, — как Андреа оставила меня, словно забытый в углу зонтик. За это время я успел узнать, как наводить порядок в мыслях и как обращаться с путаницей из перекрученных нитей. Надо действовать методично. Найти начало. Тщательно размотать, распутать клубок. Аккуратно, не торопясь, плотно намотать нить на катушку.
Легко сказать — не так ли, дорогой мой Лоос? Тебе это, во всяком случае, совсем не удалось, если ты вообще пытался. Пытался? Или ты всегда обходился с твоим клубком, с твоей пряжей — как бы это сказать? — так же странно, как делал это на террасе «Бельвю»?
В пятницу перед Троицей пробка на Сен-Готарде была не страшнее обычного, я уже к шести часам подъехал к дому, первым делом включил водоразборный кран, нажал на выключатели-предохранители, включил электрочайник и холодильник, принял холодный душ. Потом, как обычно, выбросил пустые бутылки, которые на Пасху оставил здесь мой коллега и совладелец дома. Разводить огонь в камине было ни к чему, июньский вечер оказался теплым. Настолько теплым, что в восемь часов я опять сел в машину, поехал из Агры вниз, в Монтаньолу, и припарковался перед отелем «Бельвю» (он же «Беллависта»). К моему разочарованию, на террасе не осталось ни одного свободного столика, а поскольку сидеть в застекленной пристройке я не хотел, то в нерешительности остановился, высматривая, кто из посетителей задвигает стул. Тут я его и заприметил. Он единственный сидел в одиночестве, притом за столиком на четверых, в левом углу террасы. Я обрадовался, подошел к нему — он изучал меню — и по-итальянски спросил, не возражает ли он, если… Он бросил на меня колючий взгляд, но ничего не сказал. Я повторил вопрос по-немецки и после его рассеянного кивка сел напротив.
Пока я ждал, когда принесут меню, он время от времени поднимал глаза, слегка поворачивал голову и глядел на холмистую местность за равниной. У него был крупный, костистый череп, лысый, если не считать густого, подстриженного полукруга волос сзади и столь же густой трехдневной бороды с проседью. Тяжелая голова, тяжелое массивное тело, но не бесформенное, рыхлое, а кряжистое. Я бы дал ему лет пятьдесят, не меньше. Когда кельнер принес мне меню, незнакомец низким, чуть гнусавым голосом заказал себе еду. Перед ним уже стоял графин с белым вином, он взял бокал и медленно осушил его, по-прежнему не сводя глаз с холмов. На меня он не обращал никакого внимания. Я листал меню, мой палец замер на «filetto di coniglio»,[1] и я немного испугался. До этого момента я ни на миг не вспомнил о Валери и о том, как мы с нею изрядное время тому назад ели здесь филе кролика, Валери еще в прекрасном настроении, а я уже давясь и с трудом подбирая слова, поскольку придумывал обтекаемые фразы — я собирался с нею расстаться.
Солнце садилось, и, пока озеро под нами выцветало на глазах, вино в графине незнакомца играло всеми красками.
— Какое ослепительное золото, — услышал я собственный голос. — Позвольте вас спросить, что вы пьете?
Он обернулся и посмотрел на меня так, будто только сейчас заметил мое присутствие. Не то чтобы рассеянно или неприветливо — нет, он всего лишь удивленно смотрел на меня своими светло-серыми глазами, под которыми, я сразу заметил, залегли тени. Это были не круги или мешки от усталости, а словно бы кожа более темного оттенка, какой я до сих пор видел только у индийцев.
— Извините, — сказал незнакомец, — вы что-то спросили?
— Не хочу вам мешать, — ответил я, — я просто спросил, какое вино вы пьете.
— Белое, — ответил он.
Поскольку мне показалось, что он хочет надо мной подшутить, я ощетинился:
— Это я в общем-то заметил.
— Что вы сказали?
Я несколько смутился и спросил, может ли он порекомендовать мне вино, которое сейчас пьет. Он на минуту задумался, а потом сказал:
— Мы всегда пили его под настроение.
Как и мой визави, я заказал телячий шницель с рисом и полбутылки белого вина. Отвернувшись, он курил. Возможно, мы не очень поняли друг друга — дело в том, что о тишине в этом месте можно было только мечтать. На террасе стоял грохот и гул голосов — внизу, в Аньо, время от времени с ревом садился или взлетал самолет, и даже отдаленный рокот автомобилей в долине, усиленный и отраженный озером, здесь, наверху, слышался вполне отчетливо. Когда мне принесли вино, я воспользовался случаем и вновь попытался заговорить с незнакомцем — я человек общительный и нахожу противоестественным сидеть за столом вдвоем и молчать. Подняв бокал, я сказал:
— За ваше здоровье! Моя фамилия Кларин.
Он вздрогнул так, что пепел сигареты, который он забыл стряхнуть, упал на салфетку. Подняв бокал, он сказал:
— Очень рад.
Однако представиться в свою очередь, видимо, не пожелал. Я заметил, что на безымянном пальце у него надето два кольца — простые обручальные кольца, и решил, что он, вероятно, вдовец. Все же какая-то зацепка, подумал я, на случай, если он ничем иным не проявит себя, как бывает с людьми, которых спустя четверть часа, даже не вступая с ними в разговор, можно хотя бы отнести к категории «симпатичных» или «несимпатичных». Но и в этом смысле я никакого суждения не вынес. Знал я только одно: он меня интересует. Я невольно опять вспомнил о Валери, о ее сдержанности, которая поначалу пленила меня, а под конец стала неприятна. Вдруг мой визави спросил:
— Как вы его находите?
Тут уж я вздрогнул.
— Что? Вино? — спросил я.
— Нет, — сказал он. — Вид, ландшафт!
Я ответил, что нахожу его красивым, особенно сейчас, когда зашло солнце и панорама вся в темно-синих тонах, — вообще, этот ландшафт мне знаком с давних пор. Он удовлетворенно кивнул и произнес:
— Знаком с давних пор — сказано точно, а что касается синих тонов… Вы, часом, не художник?
— Нет, — ответил я, — юрист, адвокат, а вы?
— Вот оно что, — произнес он, слегка и, как мне показалось, почти презрительно растягивая слова. На мой вопрос он не ответил, возможно, просто не расслышал: нам как раз принесли еду.
Прежде чем взяться за нож и вилку, он склонил голову и на миг закрыл глаза. «Да он же священник, — подумал я, — черные брюки, черный пиджак, я мог бы и раньше догадаться». Ел он медленно, сосредоточенно, тем не менее я опять с ним заговорил. Сегодня, когда стоял в пробке на Сен-Готарде, сказал я, мне вдруг пришло в голову: я и забыл, что означает Троица, я хочу сказать, забыл, что отмечают на Троицу, — а ведь это нехорошо. Он перестал жевать, глотнул и сказал:
— Сообщения о пробках всегда доставляют мне особую радость. А на Троицу — вьется пламя.
Он вновь принялся за еду, я же, понимая, что фантазерам надо подыгрывать, после некоторой паузы спросил:
— И где же оно вьется, это пламя?
Он не торопясь подлил себе вина, выпил.
— Оно вьется, — сказал он, — над головами двенадцати апостолов, а они символизируют Святой Дух, который через пятьдесят дней после Пасхи нисходит на них, дабы в буквальном смысле слова вдохновить их на славные дела.