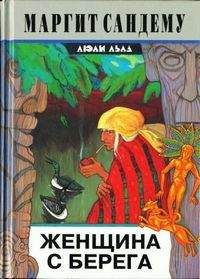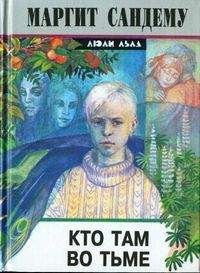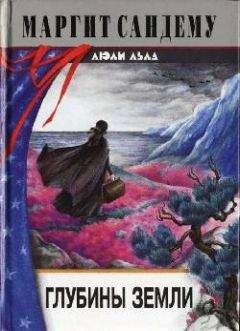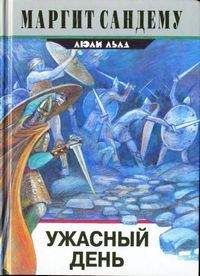Так говорила женщина - Каффка Маргит
Лона закончила писать, медленно подняв ладони к лицу, опустила на них подбородок, как на подушку, и опустилась на спинку кресла.
— Кончено, все кончено, — сказала она, как отрезала.
Наступила тишина, все ждали, что она скажет дальше.
Фанни уже приготовила чай и, обхватив кружку обеими руками, поднесла ее Лоне.
— Видела, что вы бледная, потому и заварила. Он от всего помогает. Бедная моя тетушка.
Со всех сторон раздался оглушительный, безжалостный смех:
— Бесподобно, прекрасно! И эта женщина три месяца как ординатор.
Все девушки смеялись — здоровым смехом, от всего сердца, — только Лона глядела на них с улыбкой, словно ей было неприятно, что ее потревожили.
Вошла дневная дежурная дама.
— Ах, барышни, вы уже все дома! Сколько я вас просила выходить к ужину в корсете. И как будто тут кто-то сигареты курил.
Худенькая старушка с визгливым голосом и морщинистым лицом — пугающая печальная картина будущего.
Преграды
Перевод Татьяны Терени
В глубине гостиной почтенные матроны вели спор о расстроенном браке одной именитой и прекрасной особы — ей с подозрительно неприличным рвением благоволил хозяин дома. Снаружи, где толпились девушки, и в столовой бродили группками молодые люди — они уже три масленицы подряд посещали вместе подобные собрания и чудесным образом до сих пор были не вполне в курсе материальных и прочих обстоятельствах жизни друг друга.
Хозяйская дочка, маленькая и неказистая Ила Бано, с безучастным лицом сидела в уголке сада около просившего ее руки кавалерийского офицера, а под пальмовыми деревьями три молоденькие девушки, сверкая глазами и хохоча, перебрасывались фотокарточками. Вопреки деланной небрежности, сия безобидная забава очевидно предназначалась для Шандора Бодога — представительного светловолосого мужчины, что прислонился к фортепиано и не сводил глаз с госпожи Вильдт. Красивая и стройная женщина с замысловатой прической, стоявшая в углу рядом с печью, заметила упорный взгляд, лишь когда хозяйка дома направилась к буфету и оставила ее одну. Тогда госпожа Вильдт с улыбкой, исполненной скромного благородства, поманила Шандора Бодога к себе.
В глумливой чопорности их поклона, во внимательной усмешке глаз возникло странное расположение — возможно, чудная по нынешним временам пародия на идиллический онегинский мир — и далее витало между ними, пока, разговаривая о книгах и людях, они не поймали друг друга на знакомом замечании: ах, мы это уже говорили, в один голос, теми же словами! Между тем им предложили столик и пирожные к чаю, а маленькая Ила с угрюмой сдержанностью, присущей всем некрасивым девушкам, предпочла удалиться от общества. Мужчина и женщина остались вдвоем, и над госпожой Вильдт взял верх давний ее недуг, не раз склонявший к безрассудствам — неистовая тяга к безусловной, чрезмерной искренности. В ответ на что-то она промолвила:
— Это случилось, когда я целые две недели была безумно в вас влюблена.
Кроме неизменного людского тщеславия, в Шандоре Бодоге жило объективное любопытство писателя во всем, что касается женских откровений, а выслушивать он их умел и был в этом столь же безжалостен, как и госпожа Вильдт в порывистой честности. Их порывы встретились.
— Знаете, — начала молодая женщина, — три года назад, в возрасте двадцати двух лет я попала в Будапешт. Причиной тому была смерть моего бедного отца. В денежном отношении семью тоже ждали большие перемены, так что мне пришлось задуматься о заработке. Конечно, я уже познала первую любовь. Ту, что бывает с цветочными букетами, ночной музыкой и кадрилью, а потом достигает апогея, когда тебе со значимым видом целуют руку. Мое неожиданное несчастье стало для такой любви препятствием, но облегчило забвение. Я желала совершенно новой жизни — и поскольку учительниц нынче стало так много, а из моего таланта могло что-нибудь выйти — записалась в актерскую школу. Матушка проводила меня сюда, а состоятельные родственники со слезами на глазах обещали обо мне заботиться. Так получилось, что свободное время я проводила не одна, и вечера мои печальным образом вторили дням недавнего прошлого. Здесь, на чайной вечеринке семьи Бано, я впервые повстречала вас.
— И сочли невыносимым — так вы говорили.
— Мне досаждало, что в вас было больше ума, чем в остальных, но я уже тогда выделяла вас среди прочих. В таком возрасте любовь не приходит незаметно, украдкой, и о каждом путном знакомом мы думаем: «Каково было бы любить этого человека?» Мои суждения подсказали ответ — но я едва ли вас интересовала. Мы виделись редко, у меня было много дел, и я не думала о вас месяцами. Казалось почти что странным, когда вы — спустя столько времени — окликнули меня на углу улицы Ваш по пути из Белвароша.
— Откуда идете? — спросили вы.
— С занятия.
— Какого занятия?
У меня и сейчас стоит перед глазами ваше удивленное лицо, когда я сообщила, что буду актрисой. Затем поведала, что живу у вдовы соляного пристава. Славная женщина, но я редко ее встречала, потому что целыми днями училась и любила бывать одна. Я рассказала вам о своей странной студенческой комнатушке — в то время мне почему-то нравилась такая жизнь — вы изъявили любопытство, и я вас пригласила. Помните?
— Еще как! Когда мы поднялись к вам, я пришел в смущение и спросил какую-то неосторожную глупость о вашей комнате, а вы ответили еще большей нелепицей.
— Знаю, но позже я привыкла. Вы часто ко мне захаживали — к декабрю мы стали закадычными друзьями и целыми вечерами разговаривали обо всем на свете. А после вы как-то раз без всякой причины сжали мою руку — и я сочла это совершенно естественным.
Госпожа Вильдт замолкла, подавив подобие смешка. Затем продолжила:
— Неделю спустя я уже вас любила.
— Удивительно, — задумался Шандор Бодог. — Неделю спустя вы были по-прежнему радостной и беззаботной.
— Да! Но когда вы не приходили в обещанный час, боль стучала у меня в висках и мучительное беспокойство сжимало горло — подобно задушенному рыданию. Как же чудовищно, когда вы, мужчины, заставляете женщину ждать. Все страдания мира сливаются тогда воедино, а если и существует высшая справедливость, то вечной жизни не хватит, чтобы заставить вас расплатиться.
— Аминь!
— Эх! Словом, это было безумное время. Кощунственные, языческие молитвы возносила я в церкви сервитов у алтаря Девы Марии, которой осталась верна вопреки моде на Святого Антония — ведь проще сказать такое женщине.
— Сказать что?
— Это: «Владычица! Во имя одного этого человека стоит жить и творить добро. Воздай же мне, и увидишь, на какие великие и отчаянные подвиги я буду готова ради него». То были нечестивые, самовлюбленные мольбы — теперь-то я понимаю. Подобно многим другим, я штурмовала небеса в поисках великого счастья.
— И что было потом?
— А потом, как в сказочном сне, все показалось правильным и необходимым. Даже то, что на людях вы, как и раньше, едва смотрели в мою сторону. Я была вам почти благодарна и ни о чем больше не помышляла.
— А если бы я... скажем, поцеловал вас? — задумчиво произнес мужчина.
— Пусть это останется вопросом. Итак, на второй неделе вы совершили кое-что необъяснимое.
— Сказал, что не стану на вас жениться.
— До сих пор не знаю, что вами двигало: стеснение, благородство, грубость или простая блажь.
— Ничего из этого! Я был любопытным и своенравным, а вы показались мне такой очаровательной! Я попросту впал в отчаяние и захотел вас отогнать. Понимаете?
— Может быть! Но видите ли, вам следовало знать меня лучше. Мое воспитание, мои наклонности не позволили мне до конца стать девушкой нового века. Да и те — даже типичнейшие из них — не кокетничают без, скажем так, моральной основы.
— Словом, вы разочаровались.
— Еще нет! В тот вечер мне в голову приходили странные мысли. Я не чувствовала ясно, насколько могу отвечать за собственные деяния. Думала об обществе, о людях, которые до сего дня были для меня воплощением жизненных преград. Мне вдруг вспомнилось: те, кто в прошлом году веселились у нас дома, веселятся сейчас у кого-то еще. Мой бывший жених, что запрещал мне кружевные блузы, волочится за другой, а его мать обо мне злословит. Я подумала, что раз уж жизнь выставила передо мной преграды, то и я ничем ей не обязана.