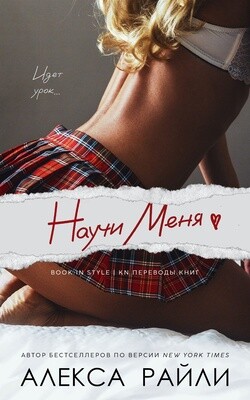Сын - Паломас Алехандро
— Как вы думаете, есть какая-то причина, по которой Гилье мог подумать, что его мама… — я помедлила, сделала глубокий вдох, — пропала без вести?
Глава VI. Вся правда о Назии, два последних рисунка и грозовые тучи
Мария
До конца триместра остается полтора дня. Темп событий невероятно ускорился. Неужели Гилье впервые вошел в мой кабинет лишь месяца полтора назад? Так обходится с нами время, когда манипулирует нашими эмоциями: ведет себя капризно и непредсказуемо, то как сердечный друг, то как самый страшный недруг.
После разговора с Антунесом прошло пятнадцать дней, но все подробности памятны мне, словно это случилось только что: его стиснутые зубы и звериный оскал, когда он вскочил и, вцепившись в стол, угрожающе подался ко мне. Вот как он среагировал на мой последний вопрос. На шее Антунеса билась толстая синяя вена, а сам он так побагровел, что я испугалась уже за его здоровье.
Так он простоял несколько секунд, показавшихся мне долгими годами, тяжело дыша разинутым ртом, а потом, медленно-медленно, попятился. Повернулся ко мне спиной, обошел стул, молча двинулся к двери. Открыл ее и уже на пороге сказал, не оборачиваясь:
— Все, ваши сеансы с Гилье закончились.
Вот и все, что он сказал. Вышел в приемную и перед тем, как дверь захлопнулась, пробурчал сквозь зубы:
— Хватит с нас этой муры.
Спустя несколько секунд грохнула входная дверь, и под его шагами заскрипел гравий на садовой дорожке.
С тех пор я не занималась с Гилье, но он каждый день приходил в домик репетировать. О моем разговоре с его отцом мы не обмолвились ни словом. Гилье приходит, робко здоровается и идет прямо в каморку, куда ведет дверь из приемной. А уходя, если видит, что моя дверь открыта, иногда заглядывает и говорит: «До свидания».
— До свидания, сеньорита Мария, — говорит он и машет рукой. С его плеча свисает рюкзак. А потом он уходит, осторожно прикрывая за собой входную дверь.
Но уже несколько дней Гилье ведет себя по-другому: попрощавшись, несколько секунд маячит на пороге кабинета. Молча. Словно что-то хочет мне сказать, но не знает, как завести разговор. Или не решается. Сегодня он тоже задержался в дверях. Но на сей раз надолго. Перехватив мой взгляд, улыбнулся.
В улыбке сквозила тревога.
— Тебе что-то нужно? — спросила я, снимая очки.
Он ответил не сразу. Засопел, заморгал.
— Сеньорита, можно вас попросить об одной вещи? — сказал он, почесывая нос.
— Конечно.
— Вы… — неуверенно заговорил Гилье, — наверно, вы завтра придете на концерт посмотреть мой номер?
Я заулыбалась, умиленная его прямотой.
— А тебе бы этого хотелось?
Он закивал:
— Да, да, хотелось бы!
— Хорошо. В таком случае я приду.
Его лицо просияло, он снова улыбнулся.
И тут же опустил глаза.
— Просто… Назия ведь не сможет прийти, и папа тоже не сможет…
Я попыталась скрыть изумление, снова улыбнулась.
— Ах, значит, твой отец не придет на концерт? — спросила, стараясь не подавать виду.
— Не придет.
Я закрыла папку с отчетами, скрестила руки на груди.
— А он тебе сказал почему?
Гилье снял рюкзак, положил у ног на пол. Потом слегка ссутулился, склонил голову набок:
— Да. Он сказал: «Потому что не пойду, и никаких гвоздей». — И снова опустил глаза.
— Ну ладно, — сказала я, — он, быть может, еще передумает. Сам знаешь — взрослые есть взрослые.
Он посмотрел на меня, грустно улыбаясь одними глазами.
— Знаю.
Мялся в дверях, больше ничего не говорил — словно бы чего-то ждал.
— Гилье, ты еще что-то хочешь мне сказать?
— Да.
— Я тебя слушаю.
— Просто… я ведь перестал ходить к вам по четвергам, а завтра начнутся каникулы, и поэтому я принес вам два рисунка, — сказал он, наклонившись к рюкзаку. Прежде чем я успела что-то сказать, он расстегнул рюкзак и вытащил два немного помятых листка. Распрямился и, все так же стоя на пороге, протянул их мне.
Я хотела сказать, что не могу взять рисунки, потому что больше его не консультирую. Хотела… но разве я могла сказать ему такое? С тех пор как Мануэль Антунес отозвал свое разрешение на сеансы, случай Гилье и все неразгаданные загадки не выходят у меня из головы. Каждый день я перелистывала его дело, свои заметки, его рисунки, припоминала обрывки разговоров… а еще незаметно подглядывала, как он репетирует. Иногда подходила к двери каморки и несколько минут наблюдала, как он отплясывает, распевая «Суперкалифрахилистикоэспиалидосо» с таким жаром, словно от этого зависит вся его жизнь: отплясывает со своей вечной улыбкой в забавном — шляпка с пластмассовым цветком, юбка до пят, ботинки на шнуровке — костюме, крутит в руках воображаемый зонтик. И все это с закрытыми глазами. И тогда в музыку вплеталось эхо слов Сони: «Думаю, тот Гилье, которого мы видим, — только деталь головоломки, и за его счастливой улыбкой стоит… какая-то тайна. Потайной колодец, и, возможно, Гилье умоляет нас вытащить его оттуда».
Я хотела было сказать ему: «Нет, я больше ничего не могу сделать на основании твоих рисунков». Но не смогла — духу не хватило. Протянула ему руку.
— Заходи, садись, — сказала я. И посмотрела на часы. — Но у меня всего несколько минут. Жду посетителя.
— Хорошо.
Он отдал мне оба листа и уселся напротив, на краешек стула, стал болтать ногами в воздухе, а я опять надела очки. Подняв глаза, увидела: теперь он подложил руки под бедра, начал озираться вокруг. Перевела взгляд на первый рисунок. Он меня крайне озадачил, и Гилье, видимо, это почувствовал, потому что поторопился пояснить:
— Это рисунок про то, что будет дальше.
Я посмотрела на него.
— Будет дальше?
Он кивнул:
— Дальше, когда закончится концерт.
Я всмотрелась в рисунок, но, как ни ломала голову, ничего не поняла.
Гилье улыбнулся:
— Это будет дальше, когда на рождественском концерте я спою и станцую свой номер, и волшебное слово сработает, и тогда не будет слишком поздно, и все уладится.
Я спешно переключилась на рисунок. И действительно, вдоль нижней кромки тянулась от края до края красная надпись «СУПЕРКАЛИФРАХИЛИСТИКОЭСПИАЛИДОСО» — словно огромный штемпель на сверхсрочной посылке.
Не успела я изучить детали рисунка, как Гилье заговорил снова.
— А второй — про другое, — сказал он со странной улыбкой.
Я заморгала, доискиваясь до логики в его словах. Но Гилье пояснил сам, не дожидаясь расспросов:
— Второй рисунок — про сейчас.
Я взяла этот лист, поднесла к лампе. И в груди слегка похолодело. Холодок медленно распространялся, словно растопыривая щупальца.
— Но, Гилье… — услышала я свой шепот. — Это же…
Тут за окном промелькнула чья-то фигура, под шагами заскрипел гравий. Посетитель на подходе. Мы с Гилье переглянулись. Он снова кивнул:
— Да. Это русалка.
Скрип прекратился, снаружи воцарилась тишина. А потом звякнул дверной звонок. Я нажала на кнопку у стола, и дверь с щелчком распахнулась. Гилье снова оглянулся, мигом соскользнул со стула.
— Я, наверно, лучше пойду, да? — сказал он, подхватил рюкзак и, не дожидаясь ответа, двинулся к двери.
Пока он неспешно удалялся, я перевела взгляд на оба рисунка. И почти непроизвольно окликнула:
— Гилье!
Он остановился, повернул голову:
— Да?
— Подожди минутку.
Он обернулся ко мне всем корпусом, но замер на месте, чуть ссутулившись, с рюкзаком в руках: маленький усталый человечек.
— Не уходи пока — у меня есть к тебе одна просьба, — сказала я.
Гилье
— Можно недлинно, — сказала сеньорита Мария перед тем, как закрыла дверь. — Мне хватит одного абзаца к каждому рисунку.
Назия всегда говорит, что взрослые странные, потому что иногда они говорят непонятное, а иногда вроде бы понятное, но потом оказывается, что все-таки непонятное, вот, например, сеньорита говорит, что мы должны много заниматься, а потом говорит: «но не чересчур много», и нам никогда это непонятное не объясняют, но никто и не жалуется, что не понял, но это ничего. Я вспомнил об этом, потому что сеньорита Мария сначала сказала мне, что я могу идти, а потом спросила, могу ли я ненадолго остаться, просто она захотела, чтобы я написал на одном листе про то, что нарисовано на двух рисунках, которые я ей принес.