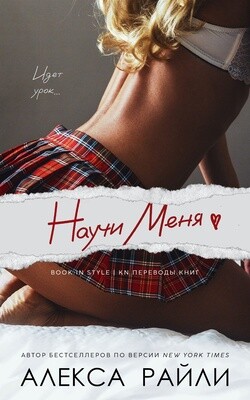Сын - Паломас Алехандро
— Как бы мне хотелось ошибаться, — услышала собственный голос, прервавший тишину. — Ну пожалуйста.
Раскрыла папку, нашла под рисунками ксерокопию письма, которое Гилье прислала мама. С тяжелым сердцем взяла, закрыла папку, положила копию сверху. Сличила листки, и все сомнения отпали: одна и та же рука.
Один и тот же автор.
Гилье
В середине августа мама, папа и я поехали в Лондон, это столица Англии, потому что там говорят на английском и всегда идет дождь, а еще потому что там живет Мэри Поппинс, когда у нее есть работа. Я никогда не летал на самолете, а мама много кого знает, потому что она стюардесса, и мне разрешили посидеть рядом с пилотом, он с рыжими усами и смеется, как пират, потому что он австралиец, это как англичанин, только лететь намного дальше.
У папы было плохое настроение и, наверно, грустное. Мы должны были лететь назад домой без мамы, потому что она ехала работать в Дубай, и они все время спорили, и папа говорил «нет», а мама говорила «да», папа говорил «не хочу», а мама говорила «а я хочу», и так все время, с весны, поэтому у мамы было много чемоданов, а у нас только спортивная сумка, очень маленькая, мы ее положили в шкаф на потолке самолета.
Когда мы прилетели в Лондон, солнце уже не светило и капал дождь, но это было даже к лучшему, потому что было нежарко и мама много смеялась, когда папа стал говорить на английском, а сеньора на кассе на вокзале его не поняла и сделала бровями вот так, как клоуны, но это была черная сеньора с цветными штучками в волосах. Потом мы пришли в гостиницу, и там везде были ковры, чтобы пол не пачкался, даже в лифте, я папа сказал:
— Во дают эти англичане — ковры, ковры, везде ковры. Даже на стенах ковры.
Сеньор в форме с пуговицами, он живет в лифте, засмеялся, но не очень громко, потому что он аргентинец, совсем как сеньор Эмилио, и сказал:
— Да, англичане есть англичане, уж я-то знаю.
Вот и все.
Потом мы пошли к Биг-Бену, это те самые огромные часы со стрелками, которые показывают в «Питере Пэне», когда они летают ночью, и в музей, где спят древние мумии и гуляют японцы, много-много японцев, но он такой большой и там такая куча всего, что мама, наконец, сказала:
— Мальчики, хотите поесть во вьетнамском кафе?
Папа сказал: «Лады», но очень серьезным голосом, а мама посмотрела на меня и сделала плечами вот так, совсем как сеньорита Соня, когда она что-нибудь спрашивает на уроке, а мы не знаем, что сказать, но мы не виноваты, потому что мы этого еще не проходили.
И тогда мы вышли на очень длинную улицу, а потом свернули на другую и пришли. Папа мне сказал, что вьетнамцы это такие китайцы, но они повежливее, и жизнь у них чуть-чуть повеселее, потому что они готовят острое, и эта еда обжигает им язык, чтобы они ели с закрытым ртом. Мама все время смеялась и я тоже, но папа почти никогда. Просто он никак не научится управляться с палочками, и вот папа взял кусочек рыбы, а он улетел на соседний стол, и соседний сеньор, он был в оранжевом тюрбане, как у Аладдина, и с длинной-длинной белой бородой, стал что-то быстро-быстро говорить и наговорил очень много, вроде бы сердито, а потом тоже засмеялся, но это я уже плохо помню, потому что мы хотели покататься на колесе обозрения и немножко опаздывали, и я боялся, что оно закроется, потому что мама всегда говорит, что англичане все делают шустро, чтобы в пять вечера быть уже дома и пить чай со своими кошками.
Из этого дня я помню только колесо обозрения, там было много народу, а больше ничего.
На следующий день мы пошли в парк, где познакомились собаки из «101 далматинца», ну, точнее, родители-далматинцы, и поели рыбы с жареной картошкой из фургончика на улице, там очень странно пахло. А еще покатались по реке на стеклянном кораблике, а когда сошли на берег, мама сказала папе:
— Мы должны устроить Гилье настоящее английское чаепитие.
Тогда мы сели в красный двухэтажный автобус, как в кино, только взаправдашний, и сошли у большого магазина, он похож на «Корте инглес» [15], но побогаче, у дверей золотые машины, а ресторан вообще шикарный, и у всех официанток светлые волосы. Когда мы выпили по чашке чаю с одним пирожным, папа попросил счет, и сеньорита со светлыми волосами принесла его в коробочке. Папа открыл коробочку и стал весь красный так бывает, когда он смотрит по телику футбол я злится. Потом он открыл рот, и рот у него стал как большая-большая буква «О». И сказал, немножко даже закричал:
— Но, послушайте… Можно спросить почему?..
Мама положила руку ему на плечо, наклонила гадову вот так, набок:
— Не надо, Ману.
— Но почему… — сказал папа.
И тогда мама посмотрела на него очень строго и сказала очень тихо:
— Давай не будем портить праздник.
Потом мы еще куда-то ходили, а ночевали в гостинице, а следующий день был последний, потому что было воскресенье. И мы наконец-то пошли на Мэри Поппинс!
Я очень нервничал, и немножко описался, пока мы ждали у дверей театра, там было много огней, и большая-большая афиша, а на ней Мэри с Бертом в сцене с карусельными лошадками и еще много детей, мам и пап, но все написано на английском.
Потом мы вошли, и, как только сеньор в очках, он был индус, проводил нас до наших мест, занавес раздвинулся и зазвучала музыка. Потом вышли Мэри Поппинс и флюгер, и зонтик с головой попугая, и дом с откидной крышей, и мы с мамой запели, она на английском, а я нет, потому что мы знаем все песни, ведь мы очень много репетировали дома. Все закончилось так быстро, что Мэри Поппинс вдруг взлетела по проволоке со сцены до самой крыши и улетела, и мы все прыгали и кричали, а некоторые дети плакали, а другие много смеялись, и мама обнимала меня крепко-крепко, потому что нам было грустно, что она улетает, но что же поделать.
А потом мы пошли повидать Мэри Поппинс в ее комнату с зеркалами со всех сторон. Мы вошли, и там очень хорошо пахло. Она поцеловала меня два раза и стала говорить по-английски, а мама все-все переводила, а потом Мэри посадила меня на свою юбку и сказала:
— О, я обожать Эспанья, люблю ваши людьи и Торремалинас [16] и Беналмадена, потому что в лето фьеста постоянно и людьи всегда смеять себя, очень симпатичное. — Она замолчала и поправила шляпку. А потом сказала: — Ты должен беречь твои родители, Уильям, очень беречь. Потому что они любьят тебя всегда, да?
Я сказал «да», и она растрепала мне волосы, и это все.
Но, точнее, еще не все, потому что, когда мы уже уходили, она мне сказала:
— И никогда не забывай: когда у тебя тяжелый проблема или горе, вспомни Мэри Поппинс, скажи магичное слово очень сильно, чтобы я его хорошо слышать, и все, все всегда будет меняться, да? — Она посмотрела на меня в зеркале и подмигнула мне, вот так, и спела: — Суперкалифраджилистикэспиалидосу-у-у-у-ус!
Я вышел из театра очень довольный и все время пел, держа папу за руку, но все сразу же стало плохо, потому что было уже поздно, и нам пришлось спешить в аэропорт.
Просто мы возвращались ночным рейсом, потому что папа и мама, конечно, совсем не богачи, ясное дело. Мама проводила нас на поезд. Она оставалась в Лондоне, потому что на следующий день летела на маленьком самолете работать в Дубай, и пока мы ехали в метро, папа не сказал ни одного слова, и мама тоже не сказала ни одного слова, а у меня болело вот здесь, это было как колики в животе, но в другом месте, а потом мы приехали на вокзал, и папа сказал:
— Аманда, ничего хорошего из этого не выйдет.
Мама обняла меня крепко-крепко, и у меня еще сильнее заболело вот здесь, почти так, словно мне очень надо по-маленькому. А мама посмотрела на папу:
— Ману, сколько раз мы уже об этом говорили.
— И будем говорить столько, сколько будет надо. — сказал папа, точнее, даже крикнул. А потом сказал плохое слово, но я не знаю, как оно пишется.
— Ману, — сказала мама.
Папа пнул ногой рекламу «Макдоналдса» с клоуном, и она упала, и всякие незнакомые сеньоры оглянулись на нас, а один что-то сказал на английском. Потом из динамика что-то закричали, я не понял что, и мама двинула головой вот так и обняла меня крепко-крепко. А потом сказала:
— Это ваш поезд.
Вот и все. Про остальное я мало что помню. Папа больше ничего не говорил, ни в поезде, ни в самолете, и, хотя у меня вот тут был комок, я сразу же заснул, потому что было очень поздно, а потом мы вернулись домой, а когда мы встали, уже наступило после, а еще был полдень, и папа сказал:
— Пойдем с дядей Хайме и дядей Энрике в пиццерию сеньора Эмилио, хочешь?
— Хорошо.
Когда мы сели за стол в пиццерии, у папы зазвонил телефон. Он сказал:
— Алло?
А потом больше ничего не говорил, потому что встал, вышел на улицу и стал ходить быстро-быстро мимо витрины, глядя на землю, и все время шевелил рукой вот так, без остановки, и трепал себе волосы, словно дрался. А еще пнул пустую бутылку, она там валялась. Тогда дядя Хайме вышел и взял его под руку, но папа сначала не захотел с ним говорить и толкнул его на машину. Потом дядя Хайме еще раз его взял под руку, и они ушли вдвоем, и все это время папа говорил по телефону, кричал:
— Нет, нет и нет! А я вам говорю: нет!
Тогда зазвонил телефон дяди Энрике.
— Да? — сказал он. И долго молчал, только чуть-чуть покачивал головой. А потом посмотрел на меня и сказал тихо-тихо: — Не волнуйся, это я возьму на себя. Ну конечно же. Не беспокойся.
И нажал на кнопку. И сказал:
— Как тебе такая идея: покушаем, а потом пойдем с тобой в кино, на любой фильм, на какой захочешь?
— А папа?
— Ему пришлось уехать, по делам — так, мелочи всякие, вот он и попросил меня остаться пока с тобой.
— А-а…
Папы не было два дня. А потом он вернулся, зашел за мной домой к дяде Хайме, и несколько недель ему иногда звонили на мобильник, и он запирался в своей комнате и кричал что-то непонятное, какие-то слова, которых я не понимаю.
Мне кажется, он иногда еще и плакал, но точно не знаю, потому что я его не видел, только слышал.
И это все.
КОНЕЦ