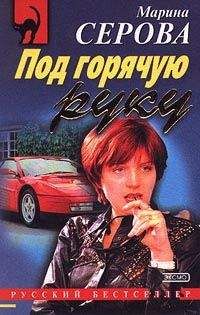Юрий Манухин - Сезоны
Я первым настроил снасть, первым наживил крючок белым кусочком мяса от ракушки, первым зашел в реку по колено и первым забросил удочку на течение, ближе к отбойному месту. Поплавок пронесло метра три, и он утонул.
— Приз мой! — закричал я во все горло, выхватив сковородника, так называют гольчиков размером не больше двадцати сантиметров.
— Тише! Тише! Распугаешь! — зашипел на меня Феликс.
— Не боись, студент! Это тебе не в Вологде удить! Речка-то хоть у вас там есть? — приговаривал я, снимая с крючка гольчика и бросая его в брезентовый мешочек.
И пошло-поехало! Ловили на глаз, на кусочки рыбы — и все одинаково он хватал. Мешки быстро наполнялись. И уже часа через два мне скучновато стало. И я направился вдоль ямы, всматриваясь в глубину.
— Вот кого! Вот кого ловить надо! — крикнул я. — А мы с тобой время теряем.
В самом глубоком месте ямы голубели большие гольцы. Они стояли неподвижно хвостом по течению, головами — вверх, и даже мое появление не заставило их сойти с места. Отделенные от меня четырехметровым расстоянием и двух-трехметровой толщей воды, они чувствовали себя в полной безопасности. Гольцов было восемь штук.
— Ну, держитесь!
Я поднял поплавок метра на два, нацепил большой кусок желтоватого гольцового мяса, зашел как можно дальше (правда, не получилось далеко — дно ямы круто уходило вниз) и забросил удочку выше ямки. Вода была прозрачная. Я видел, как мясо пошло ко дну и, зависнув над ним, медленно поплыло к гольцам. Как поплыло, так и проплыло. Никакой реакции! Я подтянул поплавок повыше и снова забросил. Теперь мясо с грузильцем волочилось по дну. Оно прошло рядом со стаей, но гольцы даже не пошевелились.
— Нет, вы у меня хапните! — сказал я и начал как одержимый бросать удочку: заброшу, подожду, пока наживка окажется за последним гольцом, снова заброшу… Видя тщетность такой рыбалки, Феликс не подошел ко мне, продолжая выдергивать из речки сковородников. А меня уже обуял азарт.
Нажива наплывала на стаю, прокатывалась по головам гольцов, а они хоть бы что. Уже и рука онемела, потому как приходилось держать тяжелое удилище на вытянутой руке. Я уже и за мясом перестал следить, только за поплавком, как вдруг поплавок утонул. «Зацеп», — подумал я и спокойно потянул удилище. Ах, как он упрямился! Как мощно, как упруго тянул на течение! Леска у меня была тонковата — ноль две, а я уже давно не выуживал крупных гольцов, потерял навык, поэтому сердце у меня заходило от волнения — вдруг оборвется. И все же я победно заорал: «Тяну!»
Феликс бросил свою рыбалку и заспешил ко мне. А я медленно шел ему навстречу, выбирая отлогий берег.
Голец был в силе! Но силу сила ломит, и, как он, бедняга, ни упирался, пришлось ему все же запрыгать на гальке, сворачиваясь в серебристое полукольцо. Я поймал его за голову, вытащил крючок (зацепился он за верхнюю губу намертво — только леску оборвав, мог уйти), хряснул его голышом по носу, и голец затих.
— Красавец! — подойдя, восхитился Феликс. — Килограмма на полтора потянет, — добавил он, взвешивая гольца на руке. — Однако долго ты, Павел Родионович, с ним возился. Как старик со своей рыбой, — продолжал он.
— Зато рыба какая! Бо-ольшая! Теперь можно и до дому.
— Может быть, еще одного поймаем?
— Хочешь, лови, — сказал я. — Но думаю, что сегодня дураков там больше нет. Лучше подождем другого раза.
Я смотал удочку на картонку, а удилище оставил на косе. Феликс последовал моему примеру. Мы уложили добычу в рюкзак и пошли домой.
9— Тише! Слышишь? Тише же, твою мать! Слышишь? Летит!!!
И так два последних дня — то я, то студент. А вертолета все не было. Вертолетные галлюцинации рождались от постоянного напряжения слуха (состоялся спор на ящик пива, кто первым услышит вертолет). Да и не только в споре дело. Ожидающий — оптимист! Он фантазер! Он творец! Он способен и журчание ручья превратить в вертолетное стрекотание. Начиная с одиннадцати утра «тише — летит» до сумерек раздавалось раз по десять с той и другой стороны. Но вертолета не было.
В тот вечер, о котором я хочу рассказать, мы рано поужинали и рано залезли в палатку. Сахар у нас пять дней как кончился. Чаевали со сгущенкой, вываренной в банках в течение пяти-шести часов. Сгущенка после термообработки становится цвета какао, твердеет до консистенции плотного желе, теряет приторность, а вкусом напоминает любимые моим братом конфеты «Старт».
При свече пили чай. Я, вытянувшись на мешке, листал покоробившиеся и затекшие от воды страницы журнала «Вокруг света», который в поле дает информацию для размышлений и повод для разговоров. Феликс даже с кружкой чая все никак не мог пристроиться: то сядет, то. приляжет, то на одну сторону повернется, то на другую. А когда допил чай и кружку бросил за палатку, лег на спину, сцепив пальцы на затылке и широко разбросав локти. Он лежал так долго и молчал. А потом длинно и шумно выдохнул воздух, снова вобрал его и заговорил:
— Помнишь, Павел Родионович, ты все пытал меня, откуда я родом. Так вот, я колымский. И в метрике моей записано, что родился я в Перекатном.
Я вздрогнул, как только Феликс произнес слово «Перекатное». Эта точка на карте стала местом смерти моего отца. Для меня географические названия становятся конкретными лишь после того, как побываю в тех местах. Раньше, давным-давно, я думал, что место, которое жило в моем воображении, и есть реальное, все как на самом деле, так и в голове моей. А обжегся вот на чем. Сколько ни рассказывала мне мама о родине своей, о деревне Дубровке на Брянщине, вернее, на стыке Брянской и Калужской губерний, отчего после революции ее деревня не раз меняла свою административную принадлежность, но представления мои, яркие, цветные, появившиеся в результате ее нежных воспоминаний, в корне разошлись с тем, что я увидел на самом деле, приехав в зимние каникулы на родину мамы. Все было не так, все не то, все не на нужном месте. Розовые и солнечные краски, переданные мне матерью, потускнели, исчезло детское очарование от воображаемых картин ее детства. Может быть, это случилось и оттого, что ту, старую, деревню немец сжег, сады вырубил, а новая Дубровка… она и была еще новой, сады, они еще и были молоденькими тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году.
Марфа Павловна Черская мужа своего, Ивана Дементьевича, первопроходца, искавшего смысл жизни и истину и вспыхнувшего пожаром скоротечной чахотки, похоронила на низкой левобережной террасе против места, где принимает река Колыма в свое русло воды могучего Омолона, набравшего силу среди Юкагирского плоскогорья.
Мой отец окончил свою жизнь в верховьях Колымы. Для могилы его я мысленно выбрал сухую, прогреваемую солнцем террасу, на поверхности которой распластался веселый ягодничек, а дальше поднимались лиственницы, и не какой-то там разреженной ущербной порослью, а частоколом, живой высокой оградой. Они полукольцом охватывали могилу моего отца, выходили к бровке террасы, откуда было видно, как идет перекатами река, неудержимая и вечная. Это место прижилось в моем воображении, стало нужным МНС, и когда я думал о судьбе своего отца, то даже намека не допускал, что все может быть иначе. А может быть, и допускал, но боялся этого, и потому ни разу не был в Перекатном, да и не стремился туда, хотя временами так хотелось.
И я уже совсем другими глазами смотрел на человека, который лежал сейчас рядом со мной, сцепив пальцы на затылке. Этот человек орал в своей кроватке, суча ножками, в то самое время, когда за стеной, не за стеной, так чуть подальше, но, главное, здесь же, в Перекатном, жил отец — веселый бородатый человек, которого я никогда в сознательной своей жизни так и не встретил и которого мне всегда так не хватало.
Не знаю, какое поле возмутил я вокруг себя, но только Феликс, не меняя позы, негромко начал говорить:
— Дома у меня, ну, дома в Вологде, у мамы, висит картина. Вот такая, довольно большая, — показал он руками примерно на метр. — Она что из себя представляет? Такой как бы выхваченный прожектором кусок палубы, даже палуба только угадывается. Мачта. Видно, что это южное море. Южная ночь, абсолютно черная. Крупные звезды…
— Так она что, маслом написана или… — перебил я его.
— Наверное, чем же еще? Так вот, мачта какого-то мощного парусника. И за канат… или не знаю, как они называются…
— Ванты.
— Пусть ванты. Так вот, за эти ванты держится девчонка лет так под двадцать. И она хохочет. Девчонка в белых брюках, в красивых туфлях. С рыжими волосами. В белой капитанской фуражке набекрень. Очень славная девчоночка. Может быть, с той поры я и неравнодушен к рыжим. Ну ладно, это к делу не относится… А она, понимаешь, хочет, видно, забраться по вантам. А я еще, когда маленьким был, думал: «Как же она залезет, такие туфли у нее!.. Интересно. Они же свалятся с ее ног и упадут в море. Будет жалко!» И эту картину я всегда помню: и это темное небо, и синее море, и яркие звезды, красивую такую девушку. И как она хохочет… Я никогда не спрашивал, откуда у нас эта картина. Знал только, что с Колымы. И в Перекатном она у нас висела. И эта жизнерадостная особа всегда встречала и приветствовала меня своим смехом, как только я, проснувшись, открывал глаза. А относился я к ней в разное время по-разному. И вот в прошлом году после крымской практики был я на каникулах, приехал домой поздно. Утром просыпаюсь — смеется. Я уже смотрю на нее по-другому. Уже вижу, что она, конечно, перерисована с чего-то, а сначала-то все время думал: «Ну где это художник на Колыме мог увидеть вот такое?» А моя мать и говорит: «Да нет, это… Да это, — говорит, — с открытки скопировано». Конечно, они сейчас увяли, эти краски. Сегодня это уже не такое черное небо, не такие яркие звезды, не такие рыжие волосы… Висела всегда она в простенке, чтобы солнце на нее не падало и краски не выгорали.