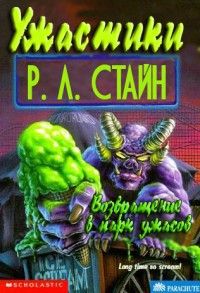Владимир Пронский - Стяжатели
— Вот и прекрасно! Выполнишь — получишь продвижение по службе. В скором времени мы будем менять зама в вашем управлении, так что у тебя есть прекрасная перспектива!
Все эти воспоминания и рассуждения мелькали в голове Германа Львовича, когда, сдав Самохвалова в больницу, он позвонил Ивану Ивановичу, объяснил суть происшествия, и сразу услышал грозное приказание:
— Немедленно ко мне!
В Елани, на площади Согласия, Герман Львович расстался с двумя сопровождавшими и вскоре остановился у главного подъезда старинного особняка, где размещалась губернская администрация. Герман Львович торопливо пробежал мимо дежурного милиционера, поднялся на третий этаж и постучал в высокую дверь знакомого кабинета. Хотя на стук никто не ответил, но Шастин и не ожидал приглашения; сек- ретарь Кузьмичёва наверняка отправилась домой, а ее хозяин, конечно же, не будет дежурить у двери приемной. Миновав «предбанник» и слегка стукнув в дверь, Шастин заглянул в кабинет Кузьмичёва, тот поманил:
— Заходи, не торчи под дверью.
Герман Львович положил на стол целлофановый пакет и папку с бумагами.
— Что это? — спросил Кузьмичёв и отодвинулся от предметов, будто они были радиоактивными.
— В пакете пятьдесят тонн баксов от нашего друга, а в папке протокол его задержания.
— Ну и зачем ты мне это приволок?!
— Не домой же к себе везти, и не в прокуратуру, где сразу за это ухватятся!
— Поменьше. — Кузьмичёв показал на собственный язык и потрепал им: мол, не болтай лишнего. — Что с нашим другом приключилось?
— Слабаком оказался. Сознание в машине потерял. Сердечный приступ.
— Откачали?
— Больница близко была. Врач сказал, что вовремя привезли.
— Как немного оклемается, продолжай с ним работу по полной программе. Теперь ему и деваться некуда, когда жизнь была на волоске, а за жизнь ведь каждая букашка цепляется! А сейчас езжай домой и отоспись хорошенько, а то у тебя глаза, как у рака вареного! — по–отечески сказал Кузьмичёв и подал руку Герману Львовичу. Когда тот повернулся, чтобы уйти, остановил: — Погоди! А это кому? — И указал на пакет и папку. — Как принес, так и забирай. Мне такого богатства не надо. Верни его нашему другу, если, конечно, будет хорошо вести себя. Пригодится на лечение.
* * *Самохвалов по–настоящему пришел в себя лишь под утро. Только тогда понял, что находится в больничной палате, что лежит на высокой кровати, и к носу тянутся две красные трубки, а на левой руке изогнулась такая же трубка от капельницы. Он в какой–то момент даже засмотрелся на бесконечный водопад капель, вытянувшихся почти в струйку, а о боли в груди вспомнил только тогда, когда слегка шевелился, меняя положение. Почему–то именно в этот момент захотелось узнать, как он попал сюда, знает ли об этом Оля? Чем больше было вопросов, тем меньше оставалось сил, чтобы позвать кого–нибудь, спросить обо всем, что в эти минуты волновало, но не оказалось рядом такого человека, и незаметно он опять впал в забытье… Открыл глаза, когда за окном вполне рассвело, а в углу окна сверкало солнце. Трубок в носу уже не было, но игла капельницы, прихваченная пластырем, по–прежнему висела на руке. Но не это удивило или обрадовало, а фигура женщины в халате салатного цвета, вполоборота повернутая к стеклянному столику. Не видя лица женщины, он заметил, как она ловко что–то перекладывала на столике, мелькая розовыми пальчиками, при этом совсем не обращая на него внимания.
— Вы кто? — спросил Самохвалов и не узнал своего голоса, показавшимся до неузнаваемости слабым и сиплым.
— Проснулись, Антон Тимофеевич?! — повернулась женщина. — Я — дежурная медсестра.
— Где я? Что со мной?
— Вы в 1‑й княжской больнице. Ничего страшного с вами не случилось. Небольшой сердечный приступ на фоне накопившейся усталости.
— Дома знают?
— Да. Вечером приходила ваша супруга, но будить вас не стали.
Лишь по истечению пятых суток его перевели из реанимации в палату, где началась новая жизнь, и он начал постоянно встречаться с Ольгой Сергеевной, у которой теперь была в распоряжении служебная машина мужа. А главное — увидел пришедшую навестить Ладу. Собиралась она к нему, правда, без особенного энтузиазма, хотя и не настраивала себя ни на что плохое. Отца действительно хотелось увидеть, сказать теплые слова, помочь своим присутствием. Ведь она еще сама не до конца выздоровела, не могла резко повернуться, да и походка далека от прежней: почему–то, как ни старалась держаться прямо, а всё равно пока ходила одним плечом вперед, отчего вид ее, особенно издали, казался угрожающим.
И все–таки сегодня Лада стала иная. И произошло это полчаса назад, когда она побывала у гинеколога и врач подтвердила ее догадки, сказав, что она беременна, даже примерный срок назвала: четыре–пять недель. И от ее слов, оттого, что догадки превратились в реальность, оттого, что она скоро станет матерью, Лада забыла о собственных болячках.
С этим настроением и появилась у отца, заранее договорившись с матерью, чтобы и она в этот момент находилась у него. Лада понимала, что совершенно не знала, о чем говорить наедине с больным отцом, как вести себя с ним — она его и больным–то не представляла, потому что никогда прежде не видела его беспомощно лежащим в постели; он даже гриппом никогда не болел.
И вот она перед палатой, и, слегка постучав, услышала возглас: «Да–да.» Заглянула в дверь, а уж мать поднялась шагнула навстречу.
— Проходи, дочка! — Ольга Сергеевна услужливо подала табуретку.
Лада положила на прикроватную тумбочку цветы, подошла к Антону Тимофеевичу, поцеловала в щеку и тихо, почти испуганно сказала, едва узнав в бледном, осунувшемся человеке отца:
— Здравствуй, пап! Как ты тут?
Прежде чем ответить, Самохвалов во все глаза рассматрел дочь, словно не видел ее давным–давно, а потом, спохватившись, указал на табуретку:
— Присядь. У меня дела на поправку идут, а как у тебя? Сама дошла?
— Твой Максим довез.
— Вот и хорошо. — Самохвалов замолчал, потянулся к руке дочери и осторожно взял, словно хотел почувствовать ее тепло.
Продолжая держать руку, Антон Тимофеевич закрыл глаза, а когда открыл их, то они оказались полными слез, а губы непроизвольно скривились в горестной гримасе.
— Прости меня! — не сразу сказал Самохвалов и, внимательно посмотрев на дочь, свободной рукой смахнул слезы.
— Пап, ты о чем? — перепугалась Лада и глянула на мать, мывшую посуду.
— Ты знаешь о чем.
— Ладно, пап! Это давно проехали — вперед надо смотреть.
К ним подошла Ольга Сергеевна, заметив покрасневшие глаза мужа, спросила, не поняв причину его слез:
— Ты чего это, отец, расквасился–то?! Ты это прекращай! Не девица красная!
Когда, расцеловавшись на прощание с отцом, Лада собралась уходить, Ольга Сергеевна вышла из палаты вместе с ней, тихо спросила:
— Была у врача? — И, увидев кивок дочери, уточнила: — Подтвердилось?
— Да, мам! Я же не шутила!
— Ну, ладно. — неопределенно сказала Ольга Сергеевна. — Иди домой.
* * *Долгожданный, но и неожиданный визит дочери заставил Антона Тимофеевича по–иному посмотреть на всё, что происходило в их семье прежде. И трогательная забота Лады, и
его слезы смешались в единое родственное чувство, которое стало совершенно иным, чем прежде, хотя формально вроде бы ничего не изменилось.
Он еще более укрепил в себе это новое чувство, когда Ольга Сергеевна рассказала, осторожно заглядывая в глаза, о беременности Лады, о Николае. Говорила осторожно, не зная, как воспримет известие муж, но все–таки не смогла схоронить в себе эту новость, скрывать которую теперь не имело смысла.
— Так что, дорогой Антон Тимофеевич, скоро станем дедом и бабкой! — повеселела Ольга Сергеевна, поправляя мужу высокую подушку.
— Ну и дай бог! Когда–то это должно было случиться.
После ухода жены, Самохвалов так расчувствовался, вспоминая Шишкина, что даже захотел увидеть его поближе, заглянуть в глаза — рассмотреть по–настоящему и пожать руку, сказать, когда остались бы одни: «Прости, брат!» И, подумав так, подумал еще и о том стремительном изменении в собственном сознании, когда человек, на которого еще недавно не мог смотреть, вдруг стал чуть ли не самым дорогим на свете. Вот что жизнь делает, вот как она крутит–вертит людьми!
Самохвалов теперь радовался свалившемуся одиночеству, когда было вдоволь времени на размышления о том, что ждало впереди, потому что история с проверкой, чувствовал он, не закончилась, а лишь по–настоящему начиналась. И это походило на правду, даже если навещавший Нистратов ничего нового не говорил; в такие моменты Самохвалову казалось, что Алексей что–то трусливо умалчивает. Пытаясь представить развитие ситуации, Самохвалов просчитывал разные варианты, и всё более склонялся к тому, что его, в конце концов, оставят в покое, и жизнь будет течь своим чередом. Ведь ребята свое получили, и вполне можно предположить, что теперь они вряд ли будут мелькать перед глазами. Хотя бы до следующей проверки.