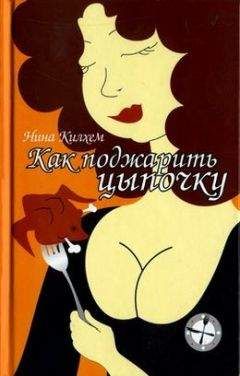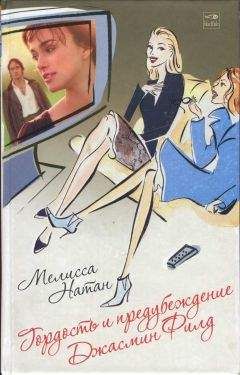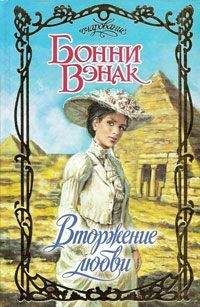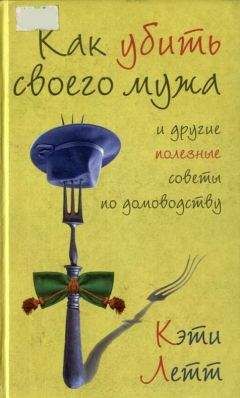Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
Горлица
Tourterelle
Близнецы Вагетт живут в большом доме, простой фасад которого выходит на улицу Габриэля Пери – это Елисейские Поля Домбаля, но ходить тут можно хоть в майке, хоть в спецовке. Дом принадлежит их деду, отошедшему от дел лабазнику, папаше Реслингу: берет и усы, дребезжащий голос и согбенная спина. Иконописный лик. Ездит на «Ситроэне 2 CV» или на велосипеде с мотором. В общем, идеальный дедушка, я о таком мечтаю, своих-то не застал в живых. За домом раскинулся сад, переходящий в огромный парк, ветви старых деревьев дотягиваются до Сите-Элиза и Клиники имени Жанны д’Арк, где февральским днем я появился на свет. В этом парке, нашем парке, летом и осенью мы смеемся, растем, прячемся, деремся, перемазываемся. Здесь мы бегаем, спим, разжигаем костры вдали от взрослых и их серьезных дел. Лет в тринадцать один из Вагеттов, Лоран, вздумал разводить в пристройке горлиц. Пары размножаются, дают потомство. Войдя туда, улавливаешь запашок помета, элегантный, едва заметный, тонкий дух соломы и перьев, застоявшейся воды, зерна, теплого пуха. Птичья аристократия. Никакого сравнения с нашим курятником – я его, впрочем, обожаю, – этакой «коммуналкой», в которой слишком много жильцов, не озабоченных чистотой и оставляющих повсюду дерьмо и огромные перья, но еще и, в порядке извинения за беспокойство, вкуснейшие яйца. Горлица – птица королевская. Она несется и живет в деликатности. Кладки высиживает постоянно, когда приходит пора, и мы щупаем под горячим брюшком матери хрупкие яички, в которых завязывается жизнь. В солнечных лучах хлипкая пристройка выглядит воркующей часовней. Тонюсенькие перышки кружат в миражах. Черные глазки осуждающе смотрят из-под серого оперения, прошитого вокруг шейки тонкими черными полосками. И правда, думается мне, немного стыдно – вот так совать нос в чужую семью…
Старость
Vieillesse
Их щеки похожи на фрукты, яблоки или груши, сморщенные и покрытые пятнышками от долгого лежания в фаянсовой салатнице, а пахнет от них воском – слабый душок, чудный, далекий и нежный, скорее память о запахе, чем сам запах. Смерть уже недалека, и тело трогательно изнурено, точно ткань очень тонкого белья, чья основа от множества носок, от множества стирок, истончившись почти до прозрачности, стала идеально мягкой, но (мы знаем) непрочной. Кожа, волосы, пальцы стариков похожи на это белье, которое мы хотим сохранить навсегда и окружаем заботой, лишь бы не порвалось. Мы, однако, знаем и то, что совсем скоро не сможем больше целовать их, скованных, осторожных. Поэтому и наши поцелуи, и их ответные при каждой встрече и каждом прощании полны волнения, обостряющего наши чувства: ведь мы с такой силой хотим навсегда запечатлеть все – малейшую улыбку, прищур глаз, слова, ласки, тепло, запах. Я помню из детства старух с лицами в кистах – мы называли их вишнями – и с серыми волосками, растущими прямо из подбородка; весь их облик не располагает к нежности, но если подойти поближе, почуешь запах миндального молока, апельсинового цвета, старой розы. Их безобразные лица и корявые тела – некоторые ходят, согнувшись под прямым углом, – так не вяжутся с этими девичьими, даже младенческими запахами, что порой кажется, будто запахи эти мне грезятся. Но вспоминается мне и другая старуха, ведьма-садовница – та, что мочится стоя, не приподняв ни длинных юбок, ни блузы, ни халата; взгляд подернутых белой пленкой глаз устремлен куда-то вдаль, руки так и сжимают лопату – облегчившись, она тотчас вновь принимается за работу. Встречая ее на улице, с тележкой, в которой она возит свои орудия и урожай, я ускоряю шаг – не то чтобы мне дурно от запаха застарелой мочи, пропитавшего ее одежду, нет. Я просто ее боюсь, ведь я еще в том зыбком возрасте, когда, уже уйдя от примитивного мышления, мы сохраняем его самые вопиющие суеверия. Хочется мне сказать и о стариках той поры, чьего общества я часто искал, восполняя отсутствие дедушек – оба они умерли задолго до моего рождения: Люсьен, отец моего отца, – в 1938-м от лейкемии, Поль, отец матери, – в 1957-м от остановки сердца прямо на улице, приступ, я не раз слышал в детстве это слово, так подходящее бесчинствам смерти, ее зверскому нападению из-за угла. Я люблю стариков. Все в них люблю. Их взгляды, их речи, их жесты, их разболтанные велосипеды, мопеды, их вспышки гнева, их мудрость. Одежду, которую они носят зимой и летом, заштопанные кофты, коричневые или цвета бордо, куртки и брюки из синего полотна, местами белесые от времени, потертые баскские береты – кожа внутри растрескалась, ведь она годами впитывала пот, и их незыблемые привычки в кафе, которых было много в Домбале в ту пору; люблю их, пропитавшихся запахами самосада, кожаного кисета, дешевого красного вина, шерсти, вдовства, моторного масла и костра. Так пахнет мой отец в последние годы жизни – за вычетом запаха табака, потому что он не курит. И мы, никогда раньше много не обнимавшиеся – отец вообще всегда чурался проявлений нежности – наверстываем упущенное. Я обнимаю его и когда прихожу навестить, и когда прощаюсь, и мне хочется растянуть эти моменты. Его тело стало худым и хрупким. Руками я чувствую его костлявые плечи – раньше тут бугрились плотной массой мускулы и жир. Я прижимаю его к себе. Много раз целую. Волнующее ощущение: как будто я обнимаю и обнюхиваю очень старого ребенка.
Путешествие
Voyage
Бодлер – снова он – отлично знал, что в склянках или в тяжелых локонах спящих волос могут умещаться целые миры. И я всегда вожу с собой его стихи, как вадемекум, который в любом путешествии лучше всякого туристического гида, ведь путешествовать – значит затеряться, освободиться от знакомого и возродиться вновь – уже без ориентиров, отпустить свою привычку приручать землю. Тогда дыхание новых стран ощущаешь как никогда свежо. Вот так сколько лет уже я часто теряюсь – и счастлив – на базарах Стамбула, Марракеша, Каира, Асуана, Тайбея, Хуараза, Шанхая, Денпасара, Бандунга, Лимы, Сайгона, Хюэ или Ханоя, Малатии, Хельсинки, Мериды, множества городов, больших и маленьких, знойных, как Диярбекир, прячущий свой табачный рынок и его ароматные золотистые груды в тени старого караван-сарая, или ледяных, как январский Краков, где я ищу на базаре, заваленном мехами, яслями из серебряной бумаги и мускусом, чем бы отогреть окоченевшие пальцы. Одни названия – поэмы. Запахи яликов уносят нас в сладостный дрейф. Два места привлекают меня, когда я путешествую; куда бы я ни приехал, я сразу направляюсь туда. Церковь, если я в христианской стране, и рынок. Церковь, ибо все они пахнут одним и тем же – холодным камнем, воском, миром и ладаном. Это, в каком-то смысле, мой дом, который повсюду со мной, я всегда «у себя» в этих знакомых образах, в спокойствии и тишине. А рынок – там я чувствую душу земли и кожу людей, плоды их трудов в ошеломляющей мешанине запахов, ужасных и восхитительных, сырого и жареного сала, мелиссы, кориандра, грубо настриженного ножницами, помета пленных птиц, парного мяса, жасмина, дубленых шкур, серы, корицы, розовых лепестков и потрохов, свежего миндаля и жареного, а еще – камфары, эфира и меда, сосисок и мяты, сирени, масла, супа, оладий, трески и осьминогов, сушеных водорослей и зерна. Нанизывая названия, вдыхая их слоги, я пишу большую поэму нашего мира и его глубинных желаний. Оголодавший Сандрар хорошо это понял в списках своих вымечтанных «Меню», которые он писал, дрожа от холода, в сердце Нью-Йорка, отторгшего его. У каждой буквы свой запах, у каждого слога – аромат. Любое слово вызывает в памяти место с его духом – запахом. И текст, сплетающийся из них мало-помалу, следуя прихоти алфавита и причудам воспоминаний, становится чудесной рекой – благоухающей рекой с тысячей притоков, рекой нашей пригрезившейся жизни, нашей прожитой жизни, нашей будущей жизни, которая, унося все дальше, открывает нам нас самих.
* * *«Я знаю, что я жил, и, будучи в этом уверен, потому что чувствовал, знаю также, что больше не буду жить, когда чувствовать перестану».
Джакомо Казанова, «История моей жизни»Серые души
Отрывок из романа
На правах рекламы
Перевод с французского Леонида Ефимова
Берта на кухне. Я не вижу ее, но чувствую, как она вздыхает и качает головой. Вздыхает, как только видит мои тетради. Какое ей дело, что я трачу свое время, марая их? Должно быть, ее пугают буквы, эти непонятные значки. Она никогда не умела читать. Для нее эти выписанные в ряд слова – великая тайна. Зависть и страх.
Я наконец подхожу к точке, к которой подбираюсь уже месяцами. Как к ужасной линии горизонта, к какому-то уродливому холму, а за ним – омерзительное лицо, которое неизвестно что скрывает.
Я приступаю к этому гнусному утру. К остановке всех часов. К этому бесконечному падению. К смерти звезд.