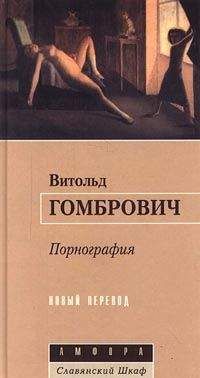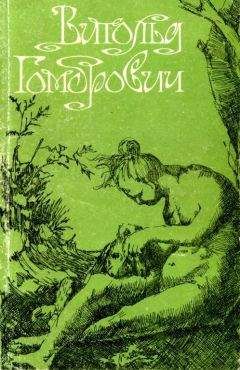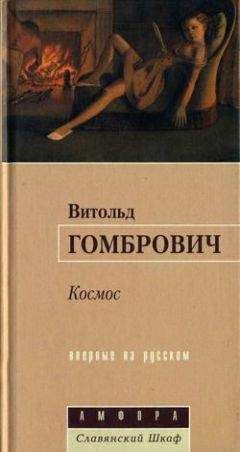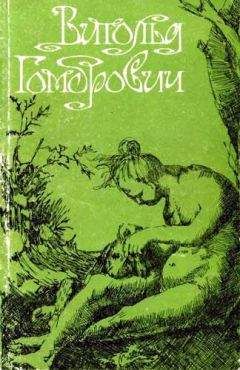Витольд Гомбрович - Дневник
3. IX
Не могу ни о чем другом думать.
Во всяком случае эти двадцать тысяч мне тоже весьма кстати…
7. IX
Купить?
9. IX
Купил.
14. IX
И сразу измерять, вычислять, обдумывать, спорить.
Хочу чтобы коврик Яремы с насыщенными сочными черно-зелено-рыже-волокнистыми сочетаниями был в холле, обшитом дубовыми панелями, своего рода соответствием золотисто-красноватой tapissierie[303] Марии Шперлинг, пронизанной черной сеткой ритмов… и повешенной там, в конце анфилады, на стене моего кабинета.
Четыре напряженных и безумных Глаза[304], два структурно прозрачных Станкевича, а к ним шесть сильно подрезанных тишиной трепетных Шперлингов я определил бы (если бы меня слушали) в две первые комнаты, а вот два полотна старых голландцев — ценный подарок Рида — пусть уж висят у меня в кабинете.
Красное пятно Яремы (по которому я должен «прогуливаться», говорил он) пусть будет между фламандским шкафом и дверями моего кабинета.
Шагал?
Трудности со столовой.
Если бы она захотела продать мне эти креслица…
Сегодня я уже сидел, правда, на импровизированном табурете, в многооконных округлостях моего кабинета.
14. IX
Письмо от Базилио из Аргентины, что «Генрик» уже плывет на одном из круизных судов в Канны, чтобы «сделать сюрприз».
???
[64]
27. X.<19>67
Генрик. И никакой не Генрик! А даже если и Генрик, то скорее всего Фернандо!
Базилио даже не удосуживается объяснить, почему Генрик. Почему не Родриго? Не Гиацинт и даже не Педро? Если дальше так пойдет, то мы еще увидим его под именем Эстебана, Тадеуша, вот, вот, действительно, а почему бы не Тадеуша?
Роза! Какая-то сомнительная, давным-давно забытая мулатка.
Сижу на импровизированном табурете в округлостях пока еще пустого кабинета. Делаю заметки в блокноте. На коленке. Вся радость от виллы среди сосен, пейзажей, радость от новоселья, от новой обстановки — к черту! Эта непонятная мулатка словно водоросли на дне, маячит откуда-то, как чернявый островок… плохо видно… совсем не видно…
И, конечно, уже сплетни (подозреваю, что у «Генрика» здесь кто-то должен быть, а то поехал бы он сюда). Вернувшись с прогулки с Псиной, Аластер сказал мне вчера с некоторым смущением, что наш викинг-бородач спросил его в «Ла Режансе» «не ожидает ли господин Гомбрович приезда кого-то из родственников?»
Роза — нет, никак не вспомню — Роза — не помню — Роза — не знаю — Роза — века прошли — Роза — утонула — Роза — утопилась — Роза — на дне — Роза…
Сомнительная мулатка на дне.
А он все-таки маньяк, маньяк, маньяк!
О том, чтобы иметь сына, я никогда в жизни не думал. И, собственно говоря, мне как-то все равно, в браке рожден он или внебрачный. Мое духовное развитие, вся моя интеллектуальная эволюция были таковы, что сегодня я нахожусь вне орбиты этой дилеммы. И то, что какой-то полумулат нежно обращается ко мне «папочка»… откуда, как, почему?.. да ладно уж, как-нибудь попривык бы, освоился. Но что касается шантажа…
Кто дал ему деньги на поездку из Бразилии? И эти постоянные прыжки, финты, жонглирование именами, зачем? Чтобы удивить? Чтобы ошеломить, ослабить? Он думает, что сможет этим многоименным танцем метека, этой военной пляской апаша вскружить мне голову, он, этот псевдо- (потому что даже это не наверняка) сын сомнительной мулатки, зачатый в случайной ночи, мимоходом, проездом, в гостиничной ночи, которая стерлась из памяти?.. Ничего не знаю. Не помню.
Из черной пустоты появляется сын!
Купил креслица в стиле Луи-Филиппа, надо перетянуть темно-зеленым.
1. XI.1967
Роза, Роза, Роза и Генрик, Генрик, Генрик и Роза, Роза, Роза и Генрик, Генрик, Генрик.
Какой еще там Генрик!
В округлостях моего кабинета.
[65]
6.XII.<19>67
Генрик, Генрик, Генрик и Роза, Роза, Роза и Генрик, Генрик, Генрик!
Какой еще там Генрик, говорю я вам, какой Генрик, повторяю!
Скорее Фернандо, с притаившимся в нем Педро!
Владислав? Из которого выглядывает Дионизио?
Внебрачный! А может, даже некрещеный… А если он скажет «нет у меня метрики…»?..
Буйная многоименная чаща вокруг, за окнами, на горных склонах, когда я так сижу себе во внебрачных округлостях моего кабинета!
12. XII.<19>67
Роза, Роза, Роза и Генрик, Генрик, Генрик и Роза, Роза, Роза!
Из негритянского тропически-отельного сумрака (дыра) проклевывается внебрачность. Туманы. Туманы встают, тянутся, подлезают, просачиваются, сопят, хандрят, хнычут, хандрычут (вот именно что Хандрычут!) в то время как я во внебрачных округлостях моего кабинета с моими непередаваемыми Глазами, которых у меня четыре.
Генрик? А если бы по-простому — Иероним!
Леонард?
1968
[66]
10.1.<19>68
Педро?
Франсиско?
Николя?
Конрадо?
Эстебан?
Мануэль?
Роберто?
Марчело?
Эдуардо?
Луис?
Лусио?
Алехандро?
Бернардо?
Пабло?
Грегорио?
Антонио?
Гильермо?
Фелипе?
Во внебрачных округлостях
моего с Розой
кабинета…
14.1.<19>68
Кризостомо?
Хавьер?
Аксель?
Бартоломе?
Базилио?
Модесто?
Бенито?
Селестино?
Внебрачная
Округлость
каб
ка
[67]
21. II.<19>68
Роза
Округлость
Каб
В округлостях Розы кабинета
Многоименный
Внебрачный
Зачатый
И кружит, окружает и госпожу Леонче вчера тоже спрашивал
Кругл
Каб
25. II.<19>68
Сын внебрачный окружает,
Сына круглая внебрачность!
Розы кабинет округлый.
В нем и был зачат тот сын!
Продаю! Продаю! Продаю!
Продаю за бесценок виллу с ее анфиладой, с солидными верандами и панорамами соснового леса и с округлым рабочим кабинетом!
Продаю сына и Розу со всеми принадлежностями-округлостями…
СРОЧНО НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА
Звонить с 15 до 17, тел. 36–850-1.
[68]
29. III.<19>68
Продал за двести четырнадцать тысяч долларов, с окрестностями, с панорамой, с сыном и мулаткой. Ничего не осталось!
3. IV.<19>68
Мне вспомнилось, как я, когда много лет тому назад писал о «Злом» Тырманда[305], начал так: «Тырманд! Талант!» И сегодня я ценю эту поэму в кепке, от которой разит водкой и неудачей, с романтической луной над Варшавой, странным образом поднимающейся из оврагов. Чтение легкое? «Детективное»? Популярное? Чуть ли не бульварное? Ну да! И потому, что это доносящееся из расквашенной морды с дырой на месте выбитых зубов пение не оглядывается ни на кого, не желает быть ни высокой литературой, ни народной, ни пролетарской, а рождается из тривиального уличного вкуса, из genius loci, из фантазии, гуляющее по этим трущобам, словно кошка, потому, говорю я, это произведение по-своему творческое и достойно восхищения. И к тому же жизненное.
Очень возможно, что Еленьский и другие перебирают меру, когда допускают в отношении этого щербатого поэта пренебрежительный тон, каким его в Польше уже попотчевали. Говорите, Тырманд, оказавшись на свободе, утрясает свои личные дела? Даже если это и так, то разве каждый процесс, возбужденный против современного польского строя, не является в то же время сведением личных счетов? Кроме того, чертой Тырманда, как и всех их, сформированных послевоенной Польшей, является отсутствие кристаллизации, они словно взбаламученная жидкость, которая не успела осесть слоями, их лучшие ценности как бы беззащитны, потому что слишком взбудоражены жизнью. Возможно, это не так плохо во времена, когда мы научились слишком хорошо выделять ценности и пользоваться ими. Хласко, Тырманд принадлежат к этому, сегодня, возможно, самому оригинальному и нашпигованному самыми большими личными трудностями течению нашей литературы. Я бы разрешил Тырманду сражаться тем оружием, каким он захочет и как захочет, и следил бы за тем, что появится в искрах этой борьбы, потому что его «Светская и эмоциональная жизнь»[306], хоть она в каком-то смысле сатира и анализ некоего ущербного лирического тенора, но ведь дает понятие о действительности… о некоей специфической польской реальности… и становится необычайно, исключительно характерной. Почему даже некоторые ее слабости становятся силой? А потому, что здесь читатель читает одновременно и книгу и ее автора; ее автор «оттуда», он создан тем, что описывает; связанный со своим описанием невидимой пуповиной, он продолжает оставаться сыном того, от чего отказывается, хоть он и оторвался от него, хоть и противостоит ему. Это ставит на произведении клеймо, удостоверяющее его исключительную подлинность. Это лучше всего видно в самых невинных фразах, брошенных мимоходом, наименее политизированных.