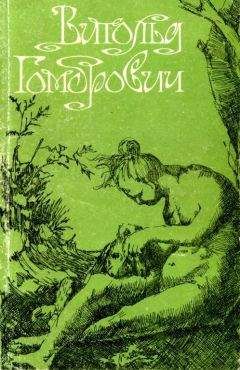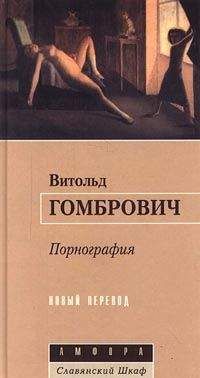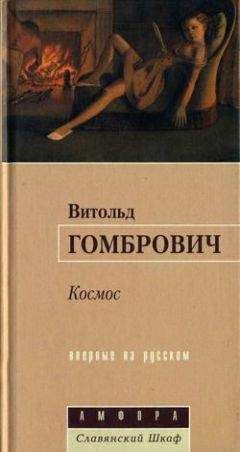Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
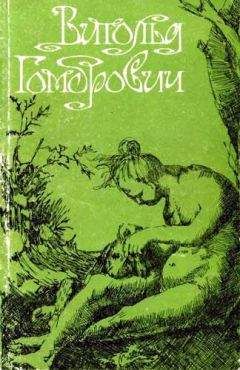
Обзор книги Витольд Гомбрович - Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
Девственность и другие рассказы
Порнография
Страницы дневника
ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ В ЛАБИРИНТЕ МНЕНИЙ
(вместо предисловия)
Писатель, завоевавший после второй мировой войны международную известность и безусловное признание у своих молодых польских коллег, для которых он — эмигрант с 1939 года — все же стал авторитетным мэтром, — Витольд Гомбрович начинал как типичный выходец из зажиточной шляхетской семьи. В литературных кругах было не принято поминать собственную родословную, но по этой самой причине он свое происхождение постоянно подчеркивал — выворачивать наизнанку узаконенные нормы поведения вообще характерно для его «метода». Гомбрович завершил курс права в Варшавском университете, затем изучал философию и экономику в Париже, но забросил многообещающую карьеру юриста сразу после литературного дебюта — сборника безумных новелл «Дневник периода возмужания» (1933). Не менее безумным оказался его роман «Фердыдурке» (1938) и пьеса «Ивана, принцесса Бургундии» (1938). Слово «безумный» здесь подразумевает лишь то, что Гомбрович будоражил читателя всякими дурачествами. И в самом деле, он вел игру, состоящую из бесконечных провокаций, и загонял читателя в угол, вынуждая его признавать самые неприятные истины. Склонный к философствованию, но совершенно чуждый всякого пиетета к университетской философии, Гомбрович и к литературе не испытывал особого почтения. Он презирал литературу как напыщенный ритуал и, даже обращаясь к ней, старался избавиться от всех ее предустановленных правил.
Чеслав Милош «Независимая Польша: 1918–1939» (в его «Истории польской литературы», 1969)Не будем забывать, что Гомбрович писал в «Дневнике»: «Я не верю в неэротическую философию». И если эротика — основа всего его творчества, то глубинная сущность эротики по Гомбровичу та же, что и у Жоржа Батая: в эротику замешаны ужас, распад, смерть и… святость — но лишь видимость святости. «Благочестие аб-со-лют-но необходимо: малейшие из самых маленьких радостей нельзя вкушать без благочестия», — говорит страшный и сардонический Леон в «Космосе». Было бы абсурдом сводить «Фердыдурке» к гомосексуальности, «Порнографию» — к эротическим опытам, «Космос» — к онанизму. Но гений Гомбровича самые абстрактные идеи воплощает в сопряжении с эротикой.
К. А. Еленьский «Витольд Гомбрович» («Три-квортерли», 1967, № 9)Без сомнения, в маскараде Гомбровича немало от атмосферы 1930-х годов: «большие жесты» немого кино, дразнящий эротизм эстрадных ревю, беднеющие семьи, которые пока еще могут себе позволить содержать слуг. И интеллектуальная страсть к парадоксам…
Иржи Петеркевич «Вилы и страх» («Энкаунтер», 1971, март)Гомбрович, не скрывая собственного имени, путешествует по своим романам в качестве рассказчика-взрослого, которого влечет к себе неоформленный, разомкнутый мир Юности. До тридцати лет в нас прибывает жизни, а после тридцати — смерти.
Юные существуют в своем особом времени, у них свой язык, отличный от языка старших.
В каждом из нас живет гадкий, неловкий, аморальный ребенок, который ковыряет в носу и обрывает мухам крылышки, пока благопристойно-взрослый экстерьер вежливо передает солонку.
И в самом деле, все герои Гомбровича способны совершать хорошие поступки лишь из страха перед дурными поступками. Абсолютная порядочность — это абсолютный маскарад.
Гэри Индиана «Сердца как пята…» («VLS», 1987, май, № 55)«Порнография», написанная двадцатью годами позже, чем «Фердыдурке», — более традиционная и целостная вещь, совершенная по композиции и безукоризненно мрачная.
Гомбрович, этот апостол незрелости, с поразительной зрелостью подчинил и свои искания формы, и свои подсознательные комплексы принципам искусства, создав, как сказано в его собственном предисловии к английскому изданию, «благородный, классический роман…, чувственно-метафизический роман».
Не Пиррова ли это победа? Что если концептуальная стройность и драматургическая цельность «Порнографии» достигнуты за счет той честности, которая постоянно ощутима в сумбуре «Фердыдурке»? Ведь, проникая за воображаемый занавес, отделяющий его от военной Польши, и создавая за ним связное «классическое» действо, Гомбрович в определенном смысле прячется от нас; книга, подобная «Фердыдурке», существует в качестве фантастического комментария к реальному миру, в то время как «Порнография» — это мир в миниатюре, завершенный в себе и упакованный в свою завершенность как в целлофан.
Джон Апдайк «Рассматривая Гомбровича» («Нью Йоркер», 1967, 23 сентября)Ничего общего с «порнографией» в традиционном смысле слова: всякий, кто немного знаком с клоунадами Гомбровича, сразу заподозрит подвох, едва бросив взгляд на заглавие. Во всем романе — ни одной реалистически изображенной сексуальной ситуации. Если можно говорить об интеллектуальной непристойности (которая здесь не исключена), то она и состоит в том, что роман не изображает ни одного естественного сексуального акта — ни между молодыми, ни между молодым и старым героями. Никакой сексуальной реальности. Весь секс в состоянии потенциального. Вот это-то Гомбрович и называет порнографией…
Ханс Майер «Взгляды Витольда Гомбровича» (в его книге «Очерки современной литературы», 1962)Ни одна вещь Гомбровича не доставляет такого наслаждения, как «Дневник». Это самое объемное и протяженное во времени его сочинение: более 750 страниц, написанных в течение четырнадцати лет. Когда Гомбрович публиковал «Дневник» в номерах «Культуры», многие читатели приняли его за документальное произведение, за дневник писателя, который откровенно рассказывает о себе. Но даже случайному читателю быстро открывается, что «Дневник» нельзя приравнять к расширенной статье в биографическом словаре. Его рассказчик стилизован, он лишь приодет под Гомбровича, но не тождествен писателю.
И все же «Дневник» оставляет ощущение такой интимности, которая почти что несовместима с печатным станком. В этом смысле перед нами как бы догутенберговское произведение: оно обращается к читателю точно так же, как некогда обращался к своим слушателям сказитель в мрачных интерьерах средневековых покоев.
Ева Томпсон «Витольд Гомбрович» (монография; Твейн Паблишерс, 1979)РАССКАЗЫ
Девственность
Нет ничего более искусственного, чем описания молодых девиц и те изысканные сравнения, к коим прибегают в этом случае. Уста как вишня, грудь как розочки, о, тогда б достаточно было купить в магазине немного ягод и цветов! Если б у губ и в самом деле был вкус спелой вишни, кто б тогда осмелился любить? Кто бы тогда соблазнился карамелькой — буквально сладким поцелуем? — Но тсс, довольно, тайна, табу, не будем больше о губах. — Через призму чувств локоть Алиции виделся то белым, гладким, девственным заострением, плавно перетекающим в более теплые тоны плеча, то снова, когда рука безвольно опущена — округлой сладкой ямочкой, тихим закутком, боковым алтариком ее тела. В остальном Алиция была похожа на любую другую дочь отставного майора, воспитанную любящей матерью в пригородном cottage. Как и другие — она временами задумчиво поглаживала локоть, как и другие — рано научилась водить носком туфельки по песку…
Но довольно об этом…
Жизнь взрослеющих девиц не сравнить ни с жизнью инженера или адвоката, ни с жизнью хозяйки дома, жены и матери. Взять хотя бы тоску и шум в крови, такие же постоянные, как и тиканье часов. Давно уже кто-то заметил, что нет ничего более необъяснимого, чем быть привлекательным. Нелегко уберечь то существо, закон бытия которого — соблазнять, но Алицию зорко стерегли канарейка Фифи, майорша-мать и пинчер Биби, которого она держала на поводке во время послеобеденной прогулки. Интересен был сговор домашних животных в деле охраны Алиции. «Биби, — пела канарейка, отгоняя недобрые мысли, — Биби, собачка, стереги хорошенько нашу хозяюшку. Служи на задних лапках! Служи на задних лапках! Следи за зонтиком: он такой ленивый, пусть хорошенько заслоняет от солнца нашу любимую хозяюшку!»
Как-то в один погожий августовский вечер, на закате, Алиция прохаживалась по аллее садика, забавляясь тем, что концом зонтика делала в гравии маленькие круглые ямочки. Садик, небольшой, но милый, был окружен каменной оградой, заросшей вьющимися розочками; какой-то бродяга разлегся под солнцем, на гребне ограды, отколупнул кусок кирпича и кинул в Алицию. Камень ударил ее по лопатке, она пошатнулась, чуть не упала и уж впору ей было закричать, как она заметила, что преследователь не выказывает ни гнева, ни радости, а только другим обломком кирпича снова метит ей в спину. Лицо грубияна выражало лишь лень полуденной сиесты, равнодушие и цинизм. Алиция легко улыбнулась ему дрожащими от боли губами, после чего бродяга слез с ограды и исчез — она же вернулась домой, повторяя: