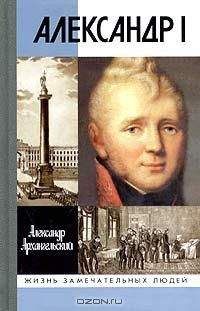Виктор Лихачев - Единственный крест
— Бедненький мой! — Вера подошла и как-то по-матерински, бережно обняла Асинкрита. — Тебе Господь дал такое нежное сердце, а ты его в броню заковал. А теперь не знаешь, как тебе быть — то ли броню разбить, то ли сердце остановить. Для первого у тебя сил нет, для второго — мужества.
Сидорин отшатнулся и посмотрел на Толмачеву, будто впервые увидел.
— Это же надо! Куда им до тебя…
— Кому?
— Грасианам и прочим гиллелям с их мудростью.
— А зачем мудрость, коли сердца нет?
— Ты знаешь, Вера, я всю жизнь завидовал Игорю Кожину.
— Он никогда не читал книг?
Сидорин засмеялся.
— Не поверишь. Но я завидовал другому: у него была старшая сестра.
— Не поверишь, а я завидовала Люське Золотцевой: у нее был младший брат.
— И чтобы разница так года три-четыре, максимум пять, не больше.
— Правильно. Ой, на что ты намекаешь?
Сидорин не ответил. Лицо его как-то вдруг просветлело, как у человека, внезапно решившего важную задачу.
— Ты принял решение?
— Кажется, да.
— Поедем вместе. Переночуешь у нас, а завтра…
— Нет, в больницу я не вернусь. Не подбивай. Самое главное ты поняла, осталось понять самую малость. Я работал рядом с вами — с тобой, Сашей, и видел… видел ваши глаза.
— Причем тут глаза?
— А при том. Язык солжет, даже сердце слукавит, а глаза нет. Не люблю пафоса, не хочу говорить, что работа была и есть для вас праздник, но это — ваше. Бог каждому дает свой талант. Помнишь эту притчу? Один человек умножил свой талант, другой закопал его в землю. Вы — умножили.
— Но ведь ты прекрасный хирург…
— Не то, не то, Верочка. Я отбывал повинность.
— Не верю.
— Поверь.
— А зачем же ты…
— Это долгая история, как-нибудь в другой раз. Там, в Березовском, я вдруг понял про себя простую вещь: если бы я не думал о том, как закончится рабочий день, и как мы встретимся с Людочкой, я бы его вытащил.
— Это неправда! Его вытащить было нельзя.
— Можно, Вера, можно. Когда живешь по пунктами кодекса…
— По чему живешь?
Но он словно не слышал ее вопроса и говорил все горячее и горячее:
— … когда заранее имеешь в руках оправдание — я, видите ли, не желал ему зла, то никогда не сделаешь сверх того, что ты можешь. А когда перед тобой лежит больной человек, и у тебя есть шанс его спасти…
Он вдруг замолчал и как-то весь сник, а затем еле слышно закончил фразу:
— … ты не должен думать о том, где встретиться с любовницей.
Через час они вышли из дома. Сидорин проводил Веру Николаевну на автостанцию, зашел к родителям, пробыл у них часа три, затем вышел на улицу — с рюкзаком, закинутым на правое плечо, одетый по-дорожному. Рюкзак был почти пустой — немного одежды и томик Пушкина. Сидорин медленно, самой длинной дорогой шел по Упертовску. Будто прощался с городом детства. Купил билет, сел в автобус — и уехал. Куда, насколько и зачем — никто в Упертовске об этом не знал. Правда, позже местная достопримечательность, вечный алкаш Шурик по прозвищу Непролейрюмка утверждал, будто, садясь в автобус, Асинкрит Васильевич сказал ему, что едет на Балканы, воевать за сербов. Но никто словам Шурика не поверил: передвигаться и что-то соображать он мог только до полудня, а позже имел обыкновение мирно спать в городском скверике напротив памятника погибшим на войне упертовцам, тогда как Сидорин уехал ближе к вечеру.
Глава третья.
Последний рейс.
В мир приходил новый день. Сначала мрак короткой летней ночи разорвал бирюзовый лоскут неба. Когда бирюза, смешиваясь с лазурью, охватили весь восток, перестал плакать коростель. Зато мелкий птичий люд — зарянки, славки и корольки грянули торжественную песнь восходящему солнцу. Солнце еще не показалось, но оно уже присутствовало в этом мире. Последний мрак на западе бледнел и рассеивался, превращаясь в белесый туман, словно черный колдун, теряя силу злых чар, спешил стать обыкновенным седым стариком. К птичьему хору присоединялись новые голоса, даже грубоватая кукушка не удержалась и, время от времени, словно стесняясь своего голоса, начинала отсчитывать кому-то годы.
Люди в автобусе не слышали птиц, не считали сколько раз за дальним лесом пронесется жалобное «ку-ку». Рассвет был прекрасен, но утром так хочется спать, тем более, когда мерный шум мотора укачивает тебя. А рассвет… рассвет не комета Галлея, завтра придет снова. Спящие в автобусе не могли и предположить, что всего через несколько секунд бежевая «восьмерка» пойдет на обгон «Икаруса», не заметив встречной машины. Водитель «восьмерки» сообразив, что отступать поздно, нажал на педаль газа и подрезал автобус.
— Твою мать! — успел закричать шофер «Икаруса» и это были его последние слова. Визг тормозов, крики, звон и скрежет стекла… Огромное красное тело автобуса будто нехотя повернуло в сторону и, замерев не секунду у кручи, рухнуло вниз. И вновь наступил мрак.
Часть вторая.
Глава четвертая.
Оборотень.
Девочка лет десяти, с удовлетворением выдохнув, крикнула в другую комнату:
— Мамочка, я сделала все уроки, — ударение было сделано на слове «все». — Можно я немножко поиграю?
— Асенька, сейчас придет папа, и мы будем ужинать. Семейный ужин…
— Знаю, святое дело.
В этот момент в прихожей раздался звонок.
— Видишь, — вновь послышался женский голос из соседней комнаты, — по нашему папочке можно часы сверять.
— Хоть бы раз опоздал, — буркнула про себя девочка.
— Вадим, мой руки, садимся за стол.
— Галочка, какой может быть ужин? — В комнату не вошел, а вбежал мужчина. Лицом он походил на Бетховена в пору расцвета. Все портила макушка, уже изрядно поредевшая. — У меня такие новости! Садись сюда, — чмокнув жену в лоб, он усадил ее на диван, — впрочем, нет, семейная трапеза — дело святое. За столом все и расскажу.
— Да что с тобой сегодня, Вадим? Может, тебя назначили министром здравоохранения?
— Я знаю, — девочка появилась в проеме своей комнаты, — наконец-то пригласили на передачу «Кто хочет стать миллионером?»
— Еще издеваются, дурехи.
— Вадим, в самом деле, или мы будем есть, или не будем. Что ты как буриданов осел мечешься?
При словах «буриданов осел» девочка засмеялась.
Мужчина тут же возмутился:
— Вот видишь, Галчонок, а потом мы удивляемся, почему дочь без должного пиетета относится к родному отцу.
— А что я сказала? Буриданов осел — это же не просто осел.
— Галя!