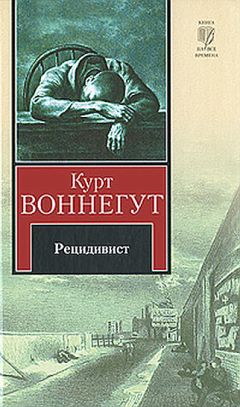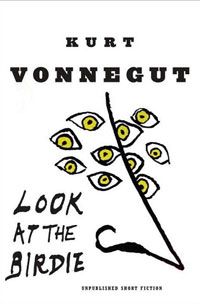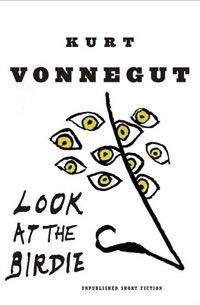Рышард Клысь - «Какаду»
— Черт подери! — обрадовался Хольт. — Вроде бы все идет хорошо. Ну, что ты так пялишься? Может, не соображаешь, где мы? Хорош! Вставай же. Нам пора двигать дальше. Не будут же американцы нас искать…
Но Раубеншток молчал и смотрел на него без улыбки, с тем же выражением непреходящего удивления в глазах. Хольт отпустил его плечо, и тогда Раубеншток вдруг дернулся, как бы собираясь с силами, чтобы встать, но тут же беспомощно прильнул к земле. Изумленный Хольт склонился над ним. Теперь он заметил у него за ухом глубокую, словно просверленную в черепе рану от осколка шрапнели, который торчал из-под запекшейся крови.
«Боже мой! — подумал потрясенный Хольт. — Боже мой! Я все время разговаривал с трупом». Но он все еще не верил себе, ему казалось невероятным, что Раубеншток умер, поэтому он опять схватил его за плечи и принялся с силой трясти. Но Раубеншток был действительно мертв — его седая голова раскачивалась на окровавленной шее, как голова старого петуха, которому перерезали горло, и только глаза, широко открытые и поблескивающие на свету, казалось, еще жили, в них все еще было выражение огромного изумления, будто мертвые могли удивляться чему-либо. Это было ужасно. Хольт только теперь понял до конца всю опасность авантюры, в которую дал себя втянуть. До сих пор ему верилось, что оба они выйдут из нее невредимыми. Но теперь, когда у него мелькнула мысль, что судьба Раубенштока, бесповоротная и уже завершенная, могла стать его судьбой, ситуация могла бы перемениться наоборот, и Раубеншток стоял бы в эту минуту над его трупом, он почувствовал, как его сердце замирает и от внезапного спазма перестает биться в груди.
Несмотря на это, Хольт зачарованно вглядывался в Раубенштока. Тот был страшен, как все убитые на фронте. На какую-то секунду к горлу подступили слезы, но заплакать над лежащим у его ног телом Хольт не смог, оно слишком пугало, чтобы вызывать горе или жалость. Чувство, испытанное им, совсем не относилось к мертвому Раубенштоку, который всего два часа назад еще переживал, думал, покрывался испариной от страха, а теперь уже принадлежит иному миру, где все имеет совершенно иное измерение и подчиняется особым законам, и если Хольт расстроился, то прежде всего из-за себя: глядя на тело Раубенштока, он видел собственную смерть.
Во впадине, где он провел ночь, кроме тела Раубенштока, лежали еще трупы. В их молчаливом присутствии Хольт вдруг почувствовал себя совершенно одиноким, беспомощным и бесконечно отчаявшимся. Неосознанным движением он запрокинул голову вверх и, глядя в небо, теперь матовое и затянутое мглою, начал горячо молиться, старательнейшим, насколько умел, образом. Он благодарил бога за спасение и просил никогда не оставлять его. Помолившись, поспешил выбраться из ямы: не хотел больше смотреть ни в лицо Раубенштока, испачканное в земле и крови, ни в его глаза, преисполненные жалостного изумления. Уже наверху он внимательно огляделся вокруг и увидел землю, перепаханную снарядами, потрескавшуюся, изрытую темными ямами воронок; они дымились, словно кратеры вулканов, в клубах низко оседающего тумана. Хольт заметил разбитые и почерневшие от огня скелеты танков, чей смертоносный ход был остановлен людьми. Танки походили на апокалиптическое полчище безумных, диких зверей, все сметающих на своем пути. Всюду, куда он только ни смотрел, лежали мертвые в позах, как их настигла смерть. Он не отваживался тронуться с места. В конце концов его и так найдут здесь, лучше остаться и ждать. Сел на патронный ящик, брошенный неподалеку от воронки, из которой выкарабкался, и стал шарить по карманам в поисках сигарет. Нашел полсигареты, но раскурить ее не удалось — она лопнула. Вспомнил, что у Раубенштока в кармане есть непочатая пачка, однако у него не хватало духу вернуться за нею. Пронизывающий холод пробирал до дрожи. Туман все ниже и ниже стелился среди гор, спускался в долину, а солнце, едва различимое сквозь изуродованные верхушки деревьев, не давало желанного тепла.
«Надо ждать и никуда отсюда не двигаться, пока не придут солдаты в плоских, похожих на миски, касках, это будут англичане, или же американцы — если стальные каски на них будут походить на круглые мелкие горшки, а я останусь сидеть на этом пустом ящике, наполовину заслоненный танком, они меня не сразу заметят. Солдаты с носилками начнут собирать трупы и складывать их рядами на земле, отдельно тела немецких солдат, отдельно американских. Но я не тронусь с места, пока они не приблизятся сюда, а потом приедут на машинах еще и другие, их будет все больше и больше, наконец они меня заметят, подойдут или прикажут мне подойти, и я сделаю это, сделаю все, что они прикажут. Пойду к ним, а они дадут мне лопату, и мы начнем копать могилы, а может, они привезут еще других пленных, и мы все станем копать большие могилы, нас сделают могильщиками, и американцы будут нас стеречь. Мы устроим кладбище как полагается. Нет, мы его только приведем в порядок, потому что я и так сижу уже на кладбище и теперь только жду; правда, тела убитых лежат вокруг непогребенные, но это настоящее кладбище с готовыми могилами, не хватает только могильщиков, но наверняка скоро они появятся здесь, и тогда мы станем закапывать трупы. Американцы будут спокойно стоять на обочине и смотреть, как мы будем играть в могильщиков. Не знаю, о чем они будут думать, глядя на нас, но могу представить себе их лица, серьезные и сосредоточенные: ведь в том, что мы будем делать, ничего веселого нет. Они будут совсем как кладбищенские гости, участвующие в печальном обряде, с нетерпением ожидающие, когда мы закончим свою грязную работу. А потом, наверное, запихнут нас в машины и повезут из этого места, повезут неизвестно куда, но повезут непременно. Хотел бы я знать куда, но нужно подождать еще, чтобы узнать наверняка, а может, совсем нам не скажут этого, а только погрузят, не церемонясь, в грузовики и повезут…»
Дальше он уже не мог ничего себе представить; вернулся мыслями к событиям минувшей ночи, но быстро убедился, что мало помнит: лишь какие-то отдельные обрывки событий, словно все происходило много месяцев тому назад и стало далеким, постепенно стирающимся из памяти сном.
Он сидел на плоском ящике неподалеку от танка, который стоял, развернувшись боком, почерневший и расплавившийся от огня, на распаханной взрывом земле, метрах в двух от ямы, где они нашли ночью прибежище, и, представив себе, что еще один рывок — и танк вдавил бы их обоих в землю, он мучительно содрогнулся. Взгляд его упал на тело свесившегося из башенного люка солдата — у того было страшно изуродованное лицо, красные, с ободранной кожей руки. Хольт перевел взгляд ниже и увидел гусеницы танка, в клочья разнесенные взрывом, свисающие по обеим сторонам шестерен, словно оторванные пустые рукава солдатской рубахи.
Он ждал, охваченный беспокойством и напряжением, тоскливо высматривал на горизонте гор силуэты людей, которые придут за ним и заберут его отсюда. И ему было все равно, куда его повезут, только бы не пришлось больше торчать в этом месте, среди жуткой, сонной тишины и молчания мертвых. На какой-то момент у него возникло странное ощущение, что все это ему уже откуда-то знакомо, все это он где-то видел или ему это снилось. И чем больше он вглядывался в окружающий его пейзаж, тем настойчивей к нему возвращалось это мучительное, беспокойное чувство. Он повернул голову и посмотрел на танк. Снова увидел обугленную ладонь, свисающую из башни. И Хольт вдруг вспомнил то утро, жаркое и душное, руины города и себя — беспомощного, пытающегося выбраться с пожарища. А потом, он помнил это прекрасно, он оказался в пустынной аллее, а рядом, на проезжей части, лежали опрокинутая повозка, убитая лошадь, круглая железная печка с высоко задранной в небо жестяной трубой и лоскутом человеческой ладони на ее верхушке, — ладони, похожей на ту, которая теперь свисала рядом, у него за плечами. Он вспомнил ужас, охвативший его тогда, и свой дикий бег по аллее с чемоданом в руке, и как он упал на дно воронки от бомбы, и как потом не мог из нее выбраться. Он поразмышлял еще немного, и это принесло ему некоторое облегчение: все повторяется снова, хотя совершенно при других обстоятельствах, и потихоньку в нем начало крепнуть убеждение, что в конце концов все окончится благополучно, как и тогда, ведь он все-таки вернулся домой целый и невредимый. Теперь он уже с нетерпением ожидал появления людей. Его до предела измотали переживания последних часов. Навалилась мучительная сонливость, набрякшие и тяжелые веки закрывались сами собой. Сопротивляться не было мочи. Силы его иссякли, и, скорчившись на краю ящика, низко свесив голову, дрожа от холода, он понемногу погрузился в полный видений сон.
Он был Дон Кихотом, Раубеншток — Санчо Пансой, а Гертруда — Доротеей; они втроем ехали верхом через выжженную солнцем пустыню, мимо воронок, пушек и покинутых стрелковых окопов, мимо ящиков от боеприпасов, разбитых танков и тел погибших в бою солдат. Гертруда неустанно рассказывала ему историю Доротеи, как будто это была ее собственная история. Он не привык ездить верхом, седло очень давило, а его старая кляча была такой рослой, что на Раубенштока он смотрел сверху, тем более что тот, по обычаю Санчо Пансы, трусил за ним на ослике. Ему все время приходилось покрикивать на Раубенштока и его осла — они не успевали за ним и Гертрудой и настолько отставали, что порою он совсем терял их из виду, и это приводило его в состояние крайнего раздражения. В конце концов он бы оставил их в покое, перестал обращать внимание на Раубенштока, но Гертруда просила не бросать Раубенштока одного. Поэтому он продолжал их звать и совершенно охрип от крика. Приближался полдень, когда они спешились. Солнце стояло уже высоко в небе и жгло в спину, натруженную железными доспехами, а Гертруда, она же Доротея, взялась первый раз за этот день готовить еду. Но, прежде чем приняться за завтрак, им надо было перебраться в другое место — трупы, лежащие на солнце, начали смердеть так ужасно, что они не могли проглотить ни куска. Раубеншток, который был Санчо Пансой, привязал ослика к винтовке, воткнутой в землю, и отправился на поиски какого-нибудь места получше, где бы они могли поесть. А Гертруда, или принцесса Доротея, снова принялась рассказывать ему странную историю о княжестве Микомиконе, чьей законной наследницей она была, и о угрюмом властелине Пандафиланде, который завладел ее княжеством. Он прекрасно помнил всю историю по книге и совсем не понимал, зачем Доротея, она же Гертруда, рассказывает ему об этом. А когда она потребовала от него поклясться победить Пандафиланда и вернуть свободу ее государству, это и вовсе озадачило его: такое требование — безумие, ведь он хорошо помнил, как печально кончается вся эта история в романе Сервантеса. Ее просьба так развеселила его, что он рассмеялся и хохотал до тех пор, пока у него не начались колики. Хотел растереть свой разболевшийся живот, но не смог — мешали доспехи. Когда он наконец успокоился и перестал смеяться, то пообещал Гертруде, которая была Доротеей, что прикончит Пандафиланда без всяких церемоний, тем более что за последнее время уже убил много людей и совершенно не испытывал по этому поводу угрызений совести. Раубеншток долго не возвращался. Лишь теперь они заметили, что его ослик тоже куда-то пропал.