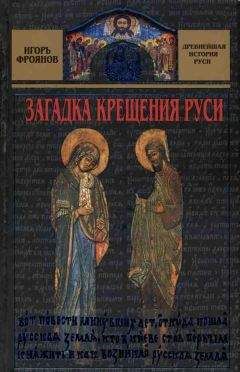Игорь Гергенрёдер - Грация и Абсолют
Заперевшись, открыла кран и под шум воды нарыдалась вдосталь. Потом перед зеркалом применила косметические средства и вышла.
Лонгин Антонович, стоя в коридоре, заканчивал разговор по телефону. Алик ни на кого ещё не была так зла, но ни за что себе не призналась бы, как не хочет увидеть по его глазам, что вид у неё сейчас неважный. Он положил трубку и сказал в открытую дверь комнаты:
– Завтра к одиннадцати утра подъедешь за Людой.
Виктор не отозвался, профессор стал наставлять его, какой подарок купить, как поднести, а Алику виделось: она помогает слепому всходить по лестнице, и он изображает одышку. Сейчас у него беззаботно-прямая спина, а выражение, когда он повернулся к девушке, такое, словно он приглашает сесть на эту спину и прокатиться. Алик подумала: не будет ли лучшим ответом застенчиво улыбнуться, идя в открытые двери угрозой для беззастенчивости?
– Может, нам не стоит в таком же темпе? – спросила она Лонгина Антоновича – он жадно вобрал в себя услышанное, пристальный к каждой нотке. Прищёлкнул пальцами, как если бы она выразила то, о чём он только и мечтал:
– Именно! Предоставим нашему другу, – он процитировал: – «готовиться к тому, чтобы в слезах от жизни просить бессонницы у любви»! А мы вдвоём едем удить рыбу.
«То есть моё незабываемое блаженство будет зваться рыбалкой», – мысленно вывела Алик, в то время как профессор спешил известить её родителей: этой ночью не им стеречь её сон. На другом конце провода отозвался папа. Лонгин Антонович назвал себя и заговорил светски-ветрено, что воздействовало по-особенному серьёзно:
– Георгий Иванович, ваша дочь у меня в плену! У меня и у поэзии: всю ночь будут костёр, стихи...
Девушка невольно отметила: «Знает, как зовут!» Она прикрыла ладонью микрофон телефонной трубки в его руке, прошептала:
– Он думает, вы слепой.
Мужчина сориентировался, послал по проводу барски-шаловливый хохоток:
– Вы спросите, по какому случаю веселье. Чудо вернуло мне зрение… Но если честно, ничего опасного не было. Спасибо вашей дочери.
Батанову кокетливо приоткрывалась слабость стоящего над слабыми, но нервировал вопрос: не к лицу ли слабо заартачиться?
Лонгин Антонович, словно услышав ожидаемый ответ, произнёс:
– Под мою ответственность! Вот она рядом… – он вновь забалагурил: – Вы не удивляйтесь, что у неё плачущий голос, она же пленница.
Алик взяла трубку и была вынуждена рассмеяться.
– Я попалась!
Её шею щекотал взгляд профессора. Она попросила папу не беспокоиться, представив его и маменьки всепоглощающую щекотку. Ей стало до того нудно, что подумалось: а впрямь ли мучает, а не веселит мучитель?
34
Помимо «волги», он имел «уазик» с брезентовым верхом и, увозя девушку, вырулив за ворота дачи, заговорил о том, что в мифах народа коми встречается: невеста, недовольная женихом, жалуется водяному.
– Тот брызжет водой на жениха, и жених несказанно преображается душой и телом, – продолжила Алик в презрении к пошлости сюжета.
Профессор, крутя баранку крутого в подскоках вездехода, возразил:
– Нет. Водяной посылает им улов на уху.
– Они едят её, и тогда жених преображается, – внесла Алик поправку.
Лонгин Антонович, внимательный к дороге в свете фар, притормозил перед рытвиной и, когда она осталась позади, сказал:
– Она отказалась есть уху. И о-очень обожглась!
На место приехали уже ночью, когда река угадывалась по едва приметному лоску недвижности. Была пора перед новолунием, но в темноте тлели звёзды, и девушка различила очертания деревьев справа и слева по берегу. Лонгин Антонович в брезентовой куртке, называемой «штормовкой», стал выгружать из «уазика» рыболовные и спальные принадлежности, а она, облачённая им в такую же куртку, немного прошлась в непривычных грубых ботинках туриста, обутых на шерстяные носки. У самой воды росла болотная трава. Комары с густым писклявым гудом стояли тучей, но не садились на лицо и руки, натёртые специальной мазью.
Лонгин Антонович надувал резиновый матрац, и Алику рисовалось, как её воля явит себя купающейся в собственном вине – в презрении к тому, кто окажется не хозяином, а лишь тюремщиком насмехающегося тела.
Он подошёл с термосом в руках:
– Не глотнёте горячего бульона?
– Куриный? – спросила она нарочито брезгливо.
– Из отличной, с базара, курицы...
– Я не люблю!
Он взял другой термос:
– А чаю с мятным ликёром?.. Ну, а я побалуюсь, – сев на матрац, налил из термоса в крышечку и стал дуть и прихлёбывать. – Я думаю, Алла, о том же, о чём и вы: о солнечном дне, когда вы сделали шаг и мы встретились. Меня поражает ваша безумная лихость. Вы устремляетесь в неведомое такая изящно-беспечная и без опаски – что открыть-то, может, и нечего.
– Откуда вам знать, что без опаски? – вырвалось у неё.
Он сказал в бережном внимании:
– Мне казалось, вы смелы от невольной готовности придумать что-то, если будет нечего открыть...
Она спросила себя: обряжается ли комедиант прорицателем или перед нею трагик и реалист?
– Если хватит придуманного – зачем рисковать? – сказала с холодной отчаянной ноткой.
Он допил чай и закрутил крышку термоса.
– Значит, понимали, терзались страхом... Я ошибся насчёт лёгкости. – Он поднялся: – Вы стоический характер, Алла. Я прошу у вас прощения.
Она глядела в тёмную траву и, чуть заикнувшись, потому что подступило к горлу, спросила:
– Ужи тут есть?
– Наверно...
– Я боюсь!
Он властно усадил её на надувной матрац, а ей почему-то вдруг стало не по себе, что, когда он приступит, она не сможет скрыть отвращения... Но Лонгин Антонович направился к машине за припасёнными дровами, разложил огонь, занялся удочками. Потом надел болотные сапоги и, прежде чем удалиться к реке, присел перед Аликом:
– Вы только думаете, будто ищете длясебя. Вы безумно хотите творить: но творить не себе – а себя-себя-себя!Для этого же потребно нечто исключительно вещное.
Её словно пробрало сквозняком, к которому так тянутся в горячке, и ещё пронзительнее ощутился присмотр. Она растерянно глядела в спину уходящему: невозможно представить, что когда-нибудь она не будет думать о нём.
Освещённая сбоку пламенем костра, она лежала на матраце, опираясь на локоть, кругом было невозмутимо-темно, и время от времени некто деятельный выбирался с удочкой из камыша, возился с рыбой, с наживкой и снова входил в реку. Он был в своей стихии – матёрый, искушённый... хлопотун. В ней крепло чувство, которое возникло, когда он разговаривал по телефону с её отцом. Это было подобие некоего любопытства... Она почувствовала себя не только захваченной, но и защищённой: от всего!
Её странно, изысканно тревожило, каким глубоким врагом она богата. Начинали смыкаться веки, но глаз не хотел упускать силуэт хлопотуна,которым притворяется чернокнижник.
Вдруг она пережила какой-то торопливый испуг, и это оказалось пробуждением. Миг в глазах всё лучилось, а потом она увидела вблизи дерево, в чьей желтеющей листве так и кипел свет. По ту его сторону встало солнце.
Профессор, нагнувшись, помешал в костре угли обломком ветви, поставил на треножник сковороду – улыбчивый, в светленькой рубашке с короткими рукавами.
– Вы так сладко спали, Альхен.
Отчётливо вспомнилось то, что было, и всколыхнувшаяся жизнерадостность угасла. Девушка сбросила штормовку, профессорский пуловер и осталась в спортивной майке – его же. Ни слова не сказав, она пошла к речке умыться, привести себя в порядок. В ольховнике её напугала водяная крыса, едва слышно скользнувшая в воду. Крыса выбралась на полузатонувшее дерево: рыжеватая, с остренькой усатой мордочкой, она смотрела на девушку в неподражаемо лукавом интересе. «Здравствуй, Федора! – тихо сказала ей Алик. – С тобой поздороваться мне очень приятно». Было грустно-грустно, и вдруг стало чуточку вольнее.
Когда возвратилась к костру, профессор снимал с треножника шипящую сковороду. На предложение позавтракать девушка помотала головой – проглотив слюнки. От запаха яичницы, жареной ветчины можно было взбеситься. Лонгин Антонович положил часть яичницы с ветчиной на ломоть хлеба, поднёс ко рту девушки – рот открылся...
Они пили ароматный чай. Профессор влил ей в кружку маленькую порцию ликёра, раза в два поболе уделил себе.
– А улов-то наш – два окуня, лещишка и тринадцать ершей!
Алик подула на чай, отхлебнула и спросила:
– Это много или мало?
– Ну... для такого рыболова, как я, довольно умелого... мало, конечно. Но на даче щука замороженная на кило триста. Уха будет превосходная на четверых.
«На четверых», – повторилось в уме Алика. Она с прищуром смотрела в чай, злясь: он прочитал то, что у неё на лице.
35
Всю дорогу до дачи она переживала: Виктор, может быть, запил и никуда не поехал... Будет скандал с профессором. Какую снова придётся переносить нервотрёпку... Только бы стычка не довела до милиции! до последующего…