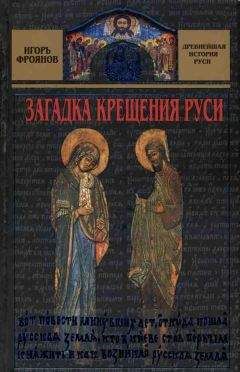Игорь Гергенрёдер - Грация и Абсолют
Проще всех было с Бобом: вот уж нет!Его портретом стал шар: тёмно-коричневая середина окружалась бурым, к которому поодаль добавлялось чуть тёмной и чуть светлой зелени.
Папки, посвящённые нескольким мужчинам, лежали в шкафчике – ими пренебрегали. Извлекалась лишь верхняя. Зажмурившись, Алик представляла лицо Виктора. Целовала-целовала... Так беспокойно, так невероятно трудно его ждать! сдерживать нежность... «Виктор, – она звала шёпотом, с ударением на втором слоге, растягивая «о», – Викто-о-ор...»
Она перебирала листы – рисунки всего того, во что хотела бы одеть его... В первый же вечер после их знакомства, когда она ушла от него, чувствуя, до чего он не хочет, чтобы она уходила, Алик схватилась за карандаши, но они дырявили бумагу, стержни ломались – она бросилась на софу. Её будоражило сознание, как он не хотел её отпускать! Она знала, что не заснёт – всю ночь представляя его тело и придумывая наряды для него… За неделю Алик создала невообразимый гардероб, где были вязаные комбинезоны, шальвары из ткани лаке, свободные расшитые куртки и узкие сюртуки, она облачала Виктора то в червлёную с застёжкой на груди епанчу, то в наряд, в котором наряду с замшевым полукафтаном присутствовали брабантские кружева и ботфорты…
Иногда, отложив рисование одежды, она бралась за портрет. В центре листа была ярко-красная маска, верхним и боковым краями из-под неё выдвигалась маска чёрная, из-под чёрной – стальная, из-под стальной – бронзовая... маски выглядывали из-под масок, убегая вглубь: чем дальше, тем более размытые и бледные, и все они, наконец, замыкались в геометрически правильный восьмигранник, выложенный свинцом. Алик мастерски написала металл: казалось, тряхни как следует листом, и маски начнут с тяжёлым звяканьем падать на пол. Что под ними откроется?
Он позвонил на четвёртый день после субботнего банкета: профессор просит в пятницу после работы посетить его на даче. Алик сухо ответила:
– Я занята, у меня свои планы.
– Тогда я передаю ему трубку…
– Не сейчас. Я не одна, – солгала она голосом девушки, невинно говорящей правду, когда её не говорят.
На другой вечер позвонил Лонгин Антонович. Алик, сыграв колебания, неохоту, приняла приглашение.
31
Чёрной «волге» пришлось поскучать у подъезда, прежде чем появилось бедствие нескучающих в серебристо-серых брюках и в ярко-пунцовой блузке с широкими рукавами: воротничок-стойка переходил в бант, роскошные волосы были укрощённо подобраны вверх и заколоты. Перекинув куртку через руку, Алик приближалась к Виктору, который стоял у машины, держась за приоткрытую дверцу, и смотрел изнурённо: «Мучительно изысканная девочка!»
– Что случилось?
Он выдавил:
– Нет, ничего...
– Но я же вижу! Ты болен?
Он насильственно улыбнулся и жестом неудавшейся церемонности пригласил её в машину. Душа Алика заныла: профессор решил предпринять наступление и Виктора давит предвидение победы влиятельного старика. Лонгин Антонович возбуждал нарастающую досаду. «Старый немощный человек – какого чёрта ещё надо?!» Видит небо, как нелегко ей дастся жестокость.
Парень, с побито-тоскливым видом управляя «волгой», молчал. Схватить бы его за волосы и встряхнуть как следует.
– Что вы там мне готовите? – спросила она нервно.
Он прибавил скорость, проговорил бесцветно:
– Хочешь, чтобы я высадил тебя и разбился?
В охватившем её страхе ей захотелось притворно пошутить: «Кончай театр!» Справа заходило солнце, принуждая жмуриться. Не собирается ли профессор сообщить ей, что парень платит алименты? У неё зачесался висок. Автострада устремлялась к горизонту под тучкой, оставляя по бокам изрытую под строительство местность. Потом дорога стала хуже, они катили вдоль лесного массива, он поредел, и дорога повернула в него.
Въехали в открытые, очевидно, заранее ворота и оказались среди яблоневого сада. Множество яблок отягощало ветви, землю усеивала падалица, и это изобилие напоминало об обилии попрошаек, которые предпочитают вымогательство собирательству, подстрекая к наслаждению ограбить ворующих.
Виктор остановил машину перед просторным деревянным домом, обсаженным кустами, и, когда направились к двери, попытался обнять Алика. Он сделал это замедленно-трусовато – и она ошпаренно вскинулась:
– Брось!
– Пойми... – в каком-то горестном исступлении сказал он, – одно твоё слово – и ты ничего не потеряешь.
– Да что это? – выдохнула она в яростно-испуганном недоумении и отвернулась.
32
Он пропустил её в комнату, где весь пол покрывал ворсистый ковёр. В дальнем углу за письменным столом, на котором горела лампа, сидел, читая бумаги, человек. В первый же миг этот мужчина в джемпере показался Алику знакомым. Он оторвался от чтения: на неё смотрело продолговатое интеллигентское, с узким заметно выступающим носом лицо. Брат-близнец профессора?! Поражённая, она не сдержала смешка деланно-вежливой радости.
Мужчина был в очках – обычных, а ей так и виделись тёмные. Он снял очки как-то через силу, словно удовлетворяя слёзную просьбу и испытывая неловкость за просителя:
– Добрый вечер, Алла.
Её врасплох стиснуло всю, будто она проснулась и увидела в спальне чужих и раздетых.
– Вы-ы?!
Он встал из-за стола и направился к ней с видом степенного смирения.
– То, что я предстал перед вами слепым, прошу считать за причуду. Хотя она не беспочвенна. Меня, в самом деле, едва не оставили без глаз... и тем подсказали попробовать: подорожает ли солнце для того, о ком думают, что он не видит... – он напирал на неё какими-то ширящимися огнисто-плескучими голубыми глазами. – Оно подорожало! – произнёс тоном снявшего маску монарха.
Алик замерла от злости на этот бесстыжий взгляд любующегося собой надувательства, она терялась, какой бы одарить резкостью, но ей не дали раскрыть рта.
– Ваш вывих – склонность к коварству. Гладко вы проделали – набились на знакомство.
Она, как не заметив, проглатывала шип, стоя горделиво и одураченно.
Позади Виктор утеснённо выкрикнул что-то: она не слушала, шатко подавшись к двери – бежать в забытье. Лонгин Антонович словил её и доказал хваткой: его поживе не хватит живости ни ускользнуть, ни выжить. Крепко обнимая Алика сбоку, он подвёл её к дивану у покрытой ковром стены:
– Сядьте!
Виктор подступал к профессору в перенапряжении гнева и как бы усилия выбрать: кинуться ли его душить или пнуть в пах?
– А ты вон туда сядь! – Лонгин Антонович указал рукой на венский стул у окна.
Алику только сейчас бросилось в глаза, что оба одного роста и в плечах профессор даже шире. Сидя на самом краешке дивана, она сцепила пальцы рук и стиснула колени так, точно её должны тащить к позорному столбу, и, не смея драться, она готова пассивно, но предельно упрямо мешать.
Лонгин Антонович, будто передавая ей нечто утешительное и стараясь, чтобы звучало подоходчивее, проговорил:
– Этот молодой человек – во всесоюзном розыске как особо опасный преступник.
Она впилась взглядом в присевшего на стул парня, её руки вдавились в край дивана, словно она хотела помочь себе подняться и не было сил. Профессор стал рассказывать о похождениях пассажира, покинувшего поезд. Описывая, как тот убил двоих милиционеров, Лонгин Антонович время от времени оборачивался к Можову:
– Я не искажаю?
В первый раз тот бешено крикнул: – Нет! – а потом, словно еле держась на воде и боясь захлебнуться, лишь не сводил глаз с девушки.
Она, застыв, уставилась под ноги в узор на ковре, слушая продолжение рассказа: как парень бросился прочь от трупов на даче. Вдруг вскинула голову, невольно предоставив профессору полюбоваться маняще-прекрасной шеей:
– Викто-о-р, было?
Он с отталкивающе-фальшивой бодростью выкрикнул:
– Так точно! – хохотнул и, внезапно обмякнув, обратился к девушке: – Прости.
Лонгин Антонович высказал ей тоном соболезнования:
– Вам бы у него прощенья попросить...
Она глянула с испепеляюще-гадливым вопросом: «Как укусишь ещё, тарантул?»
Он словно бы сдержал вздох сожаления:
– До вас он жил не только хлебом, но и яблоками. Видите ли, его отец однажды спросил меня, не найдётся ли место? Оно нашлось... как и разъясняющие ответы. Всё вам изложенное я узнал от самого молодого человека. – Он обернулся за подтверждением, и Можов с закрытыми глазами трижды кивнул:
– Да! Да! Да!
Алик, будто силясь не закричать ему через комнату, сжала губы. Вы, два проходимца, лжёте-лжёте – старалась отстранённо твердить себе, а существо её противилось: ей сказали правду.
Лонгин Антонович был поглощён наблюдением за ней, Виктор вскочил со стула, горячо воззвал к девушке:
– Докажи, что меня не жалеешь…
Профессор вытянул к нему руку, властно-успокаивающе двинул ладонью сверху вниз, затем указал гостье на письменный стол с грудкой бумаг:
– Там всё зафиксировано. Дело будет представлено так: оно мне только сейчас стало известно, и я немедля довожу до сведения... Ну, а в случае моей скоропостижной кончины сработает копия.