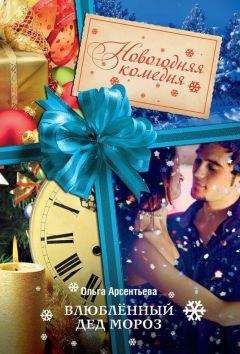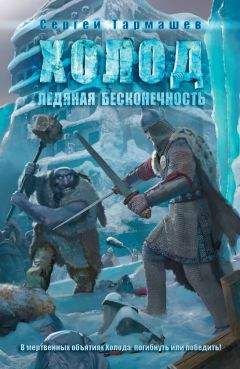Курилов Семен - Ханидо и Халерха
Знать, там, в Среднеколымске, есть подозрение, что в Улуро не безобидное дело задумано! Там все на весах вешают и всему цену определяют. И может, цену опасной считают? Недоверие? Или хотят упредить, все взять в свои руки?..
Очень радостно и очень тревожно стало на душе Куриля. Что ж, придется стелиться перед Синявиным и дьячком сплошной песцовой шкуркой, ублажить и одарить так, чтобы не осталось у них сомнения — тундра в ногах у Среднеколымска, Якутска и Петербурга. А там будет видно…
Уже темнело, когда из стойбища одновременно выехало ни много ни мало — тридцать упряжек. Куриль ехал на четырех оленях. Чайгуургин — тоже. Все должны были разъехаться по направлению растопыренных пальцев, немного охватив дорогу на Среднеколымск, но в основном — на север. Потом все делают заворот к дороге или поворачивают назад. Куриль с Чайгуургином и с Косчэ-Ханидо едут северней всех и дальше всех — в расчете на большой заворот и большую удачу.
С самого начала надо было уехать как можно дальше. Ночью караван будет стоять, и если его не найдут, то утром его увидят, догонят и перегонят, куда бы он ни направлялся… Куриль молил бога: лишь бы русские не замерзли. А Чайгуургин дрожал от страха: если беда — он пропал. С ужасом вспоминал Чайгуургин слова Ниникая и Куриля, подозревавших Кымыыргина в связи с Какой.
И ругал он себя с головы до пят — свой маленький ум, свои ноги, зашагавшие к старому гонщику; знал ведь он, что Кымыыргин в последнее время ждет подачек, намекает на несчастную жизнь. А если Кака пообещал не два оленя, а двадцать?
Ночь, как назло, была темной. Тучи висели низко, без синих просветов.
Шел мелкий снег. Бурана как будто не ожидалось, но все-таки было плохо, что падал снег: следы пропали, олени даже и не пытались найти их нюхом. Вот если б к утру расчистилось небо! Тогда бы плохое обернулось хорошим: на белом проще увидеть кибитку, а свежий след будет единственным.
Впереди ехал Косчэ-Ханидо. За полтора дня он так отдохнул, столько съел доброй пищи, даже сластей, что теперь чувствовал запас сил, пожалуй, на пол-луны.
Понравилась новая жизнь Косчэ-Ханидо. Голод — он делает злым человека.
А насытится — подобреет, и прошлые беды как-то сами собой, незаметно отстанут, теплый туман отделит пережитое от настоящего. Дня через два привезут отца с матерью, будут у них олени, будет новый тордох. После крещения он станет жить у Куриля, а родные — на Малом Улуро. Не один раз он приедет к матери и отцу. Правда, Куриль, Ниникай, Пурама не сняли с них тяжести, хоть и плакали они от счастья в ту ночь. Но поживут на людях,
убедятся, что все прощено даже богом, и, возможно, поймут истину нового, уже не ихнего времени: теперь иная цена поступкам, теперь перед злом нельзя быть трусливым.
Снял Куриль с сердца Косчэ-Ханидо и самую неудобную тяжесть. Не принуждает к женитьбе, даже как будто готов согласиться, что это не обязательно. И Халерху не принуждает. А это иное дело. Он сам поглядит на нее. И она пусть на него поглядит. Три снега прошло. Какая теперь она, какая сейчас? Ее сватало не меньше тридцати женихов. Разве такое бесследно проходит! Вместе с тем у нее так долго и так мучительно умирал отец; теперь он умер, и она круглая сирота. Ото всего этого может и порча произойти — будет она теперь то радостной и счастливой, то плаксивой и злой. Вины ее нет, но зачем такая ему? Жизнь его будет сложной, а по молодости и опасной — и начнет нелюбящая жена, как Пайпэткэ, волосы рвать… А может, все и не так, может, жизнь ее сделала самой умной и самой рассудительной женщиной, да он ей не подойдет — грубый и молчаливый, воспитанный по-старинному, дикарь в сравнении с нынешними парнями. Будет поглядывать на других, а это тоже не жизнь… А что касается людей, то мало ли какая блажь им пришла двадцать три снега назад, еще при полной власти шаманов. Теперь-то все по-другому, да и старых людей не много осталось.
Рассуждая так о своей жизни, Косчэ-Ханидо все-таки не испытывал грусти.
Даже зная, что Халерхе, конечно, было бы хорошо, если б он сразу увиделся с ней, зная, что сейчас ей немного обидно, он тем не менее чувствовал себя вполне хорошо. Вырвался он из черного мира, теперь сыт, одет, окружен вниманием — и все еще впереди. И с матерью и отцом все хорошо будет — что еще надо!.. Не было детства, пришлось долго испытывать боль? Ну и что? Зато теперь во всем теле сила, бодрость, уверенность…
Очень хотелось Косчэ-Ханидо в эту ночь отличиться — первым увидеть заблудившийся караван. Во всех жилищах спрашивать будут: "Кто отыскал?"
Конечно, ответ должен быть только один: "Богатырь Ханидо". Впрочем, он и не сомневался, что так все и случится. Не сравнить же его молодые глаза с глазами Куриля и Чайгуургина…
Не один Косчэ-Ханидо старался в эту ночь отличиться. Однако прославиться не было суждено никому: никаких признаков человека ни на глаз, ни на слух не попалось.
Лишь на рассвете, когда мороз высоко поднял тучи, а снег ко всеобщей радости перестал, каждый из ездоков пережил короткое, но обманчивое торжество, заметив справа или слева упряжку, которая — увы — оказывалась не кибиткой, а соседней упряжкой. Они прочесали тундру, едомы, холмики и тальники, как русская женщина костяным гребешком волосы. И без толку.
Неожиданно для всех показалось солнце. Оно уже стояло над горизонтом, когда у сплошных туч обнаружился край. Солнце было огромным. Оно осветило уставшие лица мужчин, зажгло огоньки в глазах оленей, которым теперь было легче бежать, видя перед собой и близь и даль.
— Теперь ты отстань, — приказал Куриль Косчэ-Ханидо. — Встретим священника — не лезь ему на глаза. Так надо.
Отстал Косчэ-Ханидо. Пригорюнился: вспомнил, что на нем не один грех.
Но всполошился, стегнул оленей вожжами.
— Там… глядите! Что-то чернеет там! — Он рукой показывал вправо, на край огромной равнины, где, кроме маленьких холмиков, ничего не было видно.
Упряжки остановились.
— А ниже крайнего слева — едома… Там. Вон что-то торчит. Ну ведь ясно, что это не куст и не яранга — верх какой-то прямой…
— Неужели кибитка?
— Я тоже не вижу, — сказал Чайгуургин.
— А-а, — болезненно сморщился Косчэ-Ханидо. — Может, я один туда съезжу?
Вместо ответа Куриль сильно стегнул оленей. Он так ничего и не видел, но уверенность Косчэ-Ханидо сейчас была высшей властью.
Он, как и Чайгуургин, долго еще не мог разглядеть что-либо определенное, однако уши его слышали все более уверенные крики Косчэ-Ханидо, а глаза уже видели слева четыре упряжки, летевших, будто на состязаниях, как раз туда, куда мчался и он.
Потом ниже холма что-то ярко, резко сверкнуло, будто осколок солнца ударился в снег и погас. Что может в зимней тундре блестеть?