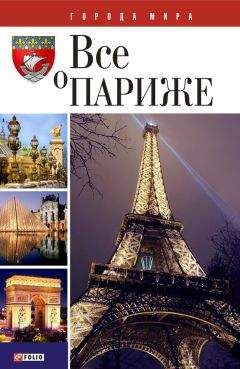Джонатан Франзен - Безгрешность
На ней была устроена смотровая площадка с грубой скамейкой. Утесы на той стороне долины горели от лучей опускающегося солнца, но ближнюю ее часть уже окутывала тень. Округлый край скалы был усыпан ненадежным ползучим гравием. А дальше она обрывалась вниз на несколько сот метров, отвесная и голая – лишь кое-где к ней жались неприхотливые эпифиты.
Том, пыхтя и раскрасневшись, с пятнами пота на рубашке, поднялся следом.
– Ты куда спортивней меня, – проговорил он и рухнул на скамейку.
– Панорама стоит того – ведь правда же?
Том послушно поднял голову, чтобы увидеть панораму. Из долины доносились крики длиннохвостых попугаев, летавших стайками. Но красота зеленой листвы, красного камня и синего неба была лишь идеей. Мир в своем бытии, вплоть до последнего атома, был ужасен.
Когда Том отдышался, Андреас повернулся к нему и открыл рот. Ему хотелось сказать: Вокруг меня сплошной ужас. Будь мне другом опять, прошу тебя. Но вместо этого некий голос произнес:
– Между прочим, знаешь что? Я видел твою дочь голой.
Глаза Тома сузились.
Ему хотелось сказать: Ты не поверишь, но я любил ее.
– Я велел ей раздеться, и она разделась для меня. У нее чудесное тело.
– Закрой рот, – сказал Том.
Я едва ее знал, но полюбил. И тебя полюбил.
– Я засунул язык ей сам знаешь куда. Было очень приятно. Очень lecker[105] – есть у нас, у немцев, такое словцо. Ей тоже понравилось.
Том с усилием встал.
– Заткни свой гребаный рот! Да что с тобой такое?
Помоги мне, прошу тебя.
– Все, что она делала, ты хотел делать сам. Разница в том, что она это делала.
– Да что с тобой, на хер, такое?
Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Мама, помоги, прошу тебя.
– Не обо мне ли ты думал, когда трахал в задницу свою Анабел?
Том схватил его за воротник. Казалось – вот-вот ударит.
– Я решил – Пип может получить удовольствие от этой сцены. И поэтому послал ей твой документ. Прямо сейчас, пока ты отдыхал. Пароль тоже послал.
Том крепче сжал руки, державшие воротник. Кто-то взял его за запястья.
– Не надо меня душить. Есть получше способы. Такие, что тебе потом ничего не будет.
Том отпустил воротник.
– Что ты делаешь? – раздался его голос.
Кто-то подошел ближе к краю скалы.
– Ты можешь толкнуть меня – вот я о чем.
Том смотрел на него.
Мне невыносимо печально из-за этого.
– Я осквернил твою дочь. Просто потому, что она твоя дочь, просто удовольствия ради. Она сказала, что никогда еще так не кончала. Я не вру. Это истинная правда – спросишь, она подтвердит. А теперь я отправил ей твой документ, чтобы она знала, из какой грязи возникла. Ну что, ты же обещал уничтожить меня, если я это сделаю. На твоем месте я бы убил такого человека.
На лице Тома уже был страх, а не гнев.
Пожалуйста, помоги мне. Мне никто никогда не помогал.
– Сядь на землю вот здесь, чтобы не упасть. А потом толкни меня ногами хорошенько. Разве тебе этого не хочется? Особенно если я… постой. – Кто-то вынул из его кармана ручку. – Я напишу записку, снимающую с тебя всякую ответственность. На руке своей напишу. Вот, смотри, я пишу на руке.
Кожа была влажная от пота и мешали волоски, поэтому писал он медленно, но рука была тверда. Текст сложился в голове сразу, без размышлений.
Вы знаете меня как правдивого человека. никакая угроза не могла бы принудить меня написать ложь. я признаюсь в убийстве хорста вернера кляйнхольца в ноябре 1987 года. за совершенный сегодня акт несу ответственность единолично. андреас вольф
Кто-то показал написанное Тому, который сидел сейчас на скамейке, обхватив голову руками.
– Ведь этого будет довольно, ты согласен? Мотив виден из признания. Если надо, подкрепишь своими показаниями. Но не думаю, что у кого-нибудь возникнут вопросы. – Кто-то протянул Тому руку. – Сделаешь?
– Нет.
– Я как друга тебя прошу. Мне что, умолять?
Том покачал головой.
– Мне что, тащить тебя к обрыву?
– Нет.
– Не лги мне, Том. Тебе знакомо желание убить человека.
– Разница в том, что я не убивал.
– Но теперь можешь. И хочешь. Признайся, по крайней мере: хочешь.
– Нет. Ты психически болен и сам того не сознаешь, потому что болен. Тебе надо…
Голос Тома перестал звучать. Вдруг странно, резко вырубился. Губы еще шевелились, и по-прежнему издалека доносилось журчание воды, кричали попугаи. Неслышимой стала только человеческая речь. Это очень сильно сбивало с толку и, видимо, было делом рук Убийцы. Но кто-то и Убийца были одно. Убийца что, всегда был глух к людским голосам?
В таинственной избирательной тишине он двинулся от Тома к обрыву. Услыхав шорох гравия под подошвами, обернулся и увидел: Том встал, машет ему руками и, судя по губам, что-то кричит. Он снова обратил взгляд к обрыву и посмотрел вниз, на кроны тропических деревьев, на большие каменные обломки, упавшие с высоты, на зеленые волны растительности, словно разбивающиеся о них. Когда все это стало медленно приближаться, а потом быстрей, а потом совсем быстро, он держал глаза широко открытыми, потому что был правдив с самим собой. За мгновение до того, как все было кончено и сделалось ничем, он услышал все человеческие голоса на свете.
Стук дождя
Туман стекал с сан-францисских холмов подобно жидкости, которой почти что и был. В лучшие дни он распространялся через залив и брал Окленд улицу за улицей – ты видел это воочию, эта перемена происходила у тебя на глазах и с тобой, погода на марше. Где ему встречалась на пути секвойевая роща, выпадал дождь – самый локальный, какой только бывает. На открытых местах он невесомо и нежно задерживался, его пребывание казалось и бесконечным, и концом всего сущего. Это была преходящая печаль – нечто такое, чему печальное настроение добавляло красоты, чему недолговечность добавляла ценности. Это была медленная песня в миноре, которую затем прогонял рок-н-ролл солнца.
Та печаль, что, поднимаясь по склону холма на работу, чувствовала Пип, не казалась ей такой уж преходящей. Улицы ранним воскресным утром были пусты. Машины, которые в солнечную погоду выглядели бы просто припаркованными, в тумане казались брошенными. Где-то, не близко и не далеко, каркал ворон. Другие птицы в тумане умолкали, а вороны, наоборот, делались разговорчивы.
В “Кофейне Пита” Нави, помощник менеджера, клал выпечку внутрь прилавка-витрины. У Нави в растянутые мочки ушей были вставлены деревянные диски размером с покерные фишки, и он если и был старше Пип, то совсем ненамного, но мир корпораций, торговли и денег никаких проблем у него, похоже, не вызывал. Это был ее первый рабочий день после краткого периода обучения, и он, пока она загружала кассу и наполняла емкости жидкостями, держался с ней по-деловому, ничего личного, никаких поблажек. Она чуть ли не до слез была рада, что ее начальник – всего лишь начальник, что по большому счету ему нет до нее дела.