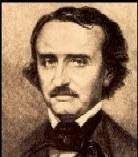Юрий Красавин - Русские снега
Ваня открыл дверь и попал в сонное царство. Ни один из телят не мыкнул, хотя слышно было в темноте их дыхание.
— Минотаврики! — он поталкивал одного за другим ногой. — У вас что, зимняя спячка, как у медведей? Вставайте! Нечего разлеживаться!
Телята нехотя поднимали головы, моргали сонными затуманенными глазами… Нет, они не выглядели больными — только заспанными.
Держа фонарь в одной руке, другой трепал за уши, светил им в глаза:
— Телятко, ты чего? Соображай хоть маленько: белый день на дворе. Сколько можно дрыхнуть! Спишь — не живешь.
Ничто не помогало: ни укоры, ни свет им в глаза.
— Ладно, ребята, голод не тетка. На голодное-то брюхо недолго спится — это я по себе знаю. Встанете, как миленькие.
Душновато здесь — надо бы пробить вентиляционный ход наверх, или даже два. Ваня потолкал ворота, через которые летом выгоняли стадо на пастбище, растворил их, но вместо снега за ними оказалось новое пространство… озадаченно перешагнул порог и увидел ряд конских стойл, и лошадок, смотревших на него сквозь решетки кормушек. И самое удивительное: он, прекрасно знавший, что нет и не было в Лучкине лошадей во всю его жизнь, теперь почувствовал, что все это ему знакомо! Он знал этих лошадей даже по именам! Вот Метелица, серая кобыла, широкогрудая, большая, бегать не любит, а может быть и не умеет — она просто работяга.
— Метелица! — позвал Ваня, и та радостно всхрапнула ему навстречу. — Метелица, Метелица, — повторял он; у него изменился голос — стал мальчишески тонким и звонким.
Вошел в стойло, поднял фонарь повыше — как вдруг тонка стала его рука! — посветил: и грива, и хвост у лошади пышные, белые, а сама она серая.
А в соседнем стойле узнал еще одну лошадку — это Ворона. Что самое удивительное: и та узнала его, посунулась к нему мордой. Погладил Ворону, ощутив теплые подвижные ноздри, погладил и Метелицу детской своей рукой по шелковой шее и вышел, закрыв за собой дверцу.
Тут он понял, что вовсе не Ваня он, а зовут его Родька…
Стоя с фонарем посреди конюшни, он увидел себя одетым в заплатанную ватную фуфайку явно с чужого плеча, а на ногах у него вдрызг изношенные валенки с калошами-тянучками, и не удивился.
Это была колхозная конюшня. И вроде бы, лошади общие. Но Метелица ему роднее всех, потому что немного раньше она стояла во дворе их дома, то есть его, Родькиного дома.
Ваня, ставший Родькой, сел на порожке стойла и долго сидел, бездумно рассматривая при свете фонаря свои детские ручки, валенки с калошами… сидел, вдыхая такой знакомый запах конюшни и ждал конюха Макара, который сейчас должен прийти.
В темноте стукнула копытом еще какая-то лошадка. Казалось, сейчас выйдет из сенника дядя Макар, конюх, и скажет: «А-а, опять пришел!»
Ваня, ставший Родькой, прошелся по конюшне, посмотрел на Милку — скоро будет жеребиться, потом, виновато отводя глаза от других лошадей, отнес маленькую охапочку клевера Метелице, бросил ей в кормушку и направился к воротам. Как только перешагнул порог, все изменилось — он оказался в телятнике, а конюшни не было.
5.В растерянности со странной улыбкой сел на чем пришлось и так сидел, поглядывая в ту сторону, где ворота… в конюшню!
Маруся застала его сидящим здесь, на порожке…
— У Анны была, — сообщила она. — К ней нынче с утра пораньше нищий заходил.
Ваня посмотрел на нее вопросительно. И столь же вопросительно посмотрела на него мать.
— Какой-то старичок, — осторожно и недоуменно добавила она. — Между прочим, босой, как по летнему времени. Я видела его мельком, когда он выходил от Анны. Та говорит: нищий, мол… ходит по миру, Христа ради. Краюшку хлеба умял у нее и полкринки молока выпил.
— До чего это меня умиляет! — возмутился Ваня. — Такая добрая старушка! Кормит всех, кто ни зайдет к ней. Доброта эта, между прочим, за мой счет. Я буду носить хлеб им на собственном горбу, не ближний путь — пять километров, а они этот хлебушек легко так, непринужденно раздают кому угодно. Одна подкармливает каких-то белогвардейцев, другая — нищих. Легко быть добреньким: я б и сам сидел да раздавал направо и налево. Кто б только мне подносил!
Маруся удивилась неожиданному его возмущению. Это Ваню рассердило еще больше.
— Самое замечательное: я получаюсь жадный, скупой и прижимистый, а они все — такие ласковые, великодушные! Я жмот и скряга, они милосердны!
Маруся была с ним в общем-то согласна. Одно дело — когда кто-то рядом занят безвредными делами: то лошадку в дровни запрягает, то разговаривает или даже поспешает в отъезжие поля с охотою своей — Бог с ними! Но совсем иное дело, когда приходят этак и лопают за здорово живешь хлеб с молоком.
— Попрошаек развелось: то офицеры, то нищие, — ворчал сын. — Скоро и мы по миру пойдем.
— Двор у нее обрушился, — словно оправдывая Анну, сообщила Маруся. — Не выдержал, снег его придавил. Трех куриц до смерти. Того и гляди, саму ее придавит, как курицу.
Помолчали оба, размышляя.
— Сходи вон туда, — кивнул Ваня на ворота. — Я подожду.
Маруся странно смутилась и отозвалась не сразу:
— Я была там, Вань.
По ее ответу ясно было, что она видела все то, что и он.
— Не знаешь, что тут и думать, — вздохнула Маруся. — У Махони во дворе петух появился… с двумя головами. Туловище одно, а шеи две и головы тоже две, обе кукарекают.
Тут Ваня оживился:
— Что, неужто двухголовый?
— Двух.
— Человеческим голосом не разговаривает?
— Пока нет.
— Пойдем посмотрим…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Подходя к дому Махони они услышали заливистый петушиный крик. Пели сразу два петуха, один высоко и звонко, с жавороночьим самозабвением и восторгом, а второй в лад ему голосом более низким и унылым, зато с орлиным грозным клекотом. Немного погодя, пенье повторилось. И в первом, и во втором случае это не было простым «кукареку», а скорее авторская обработка обычного петушиного горлодрания, переложение его певцами-профессионалами на музыкальный лад, так что это стало мелодией почти гимнической.
— Ну, если это гимн, дела наши не так уж плохи, — пробормотал Ваня, поднимаясь на крыльцо, Маруся за ним.
Они вошли в избу — Махоня сидела на полу в окружении «своих людей» и весело смеялась.
Завидев вошедших, человечки тотчас утихомирились и застенчиво подались кто куда — под лавку, под кровать, под голбец.
— Ой, я уморилась с ними, — выговорила Махоня сквозь смех. — Они тут такой спектакль затеяли! Ты подумай-ко, Маруся: один из них представлял Зорьку, другой меня, третий кошку, четвертый Иван Иваныча.
Рядом с Махоней, нахохлясь, сидел красный петух, с видом убитым, словно больной… «Бедолага совсем уморился, изнемог, — так подумал Ваня. — Что ж, пенье — дело нелегкое».
— Ну вот, а мне сказали, что у тебя две головы, — сказал ему Ваня, садясь рядом.
— Двухголовый во дворе, — радостно сообщила Махоня. — Он совсем заклевал моего. Я уж забрала его в дом, вот он и сидит тут на лавке. Наверно, околеет. Ишь, глаза закатывает.
— А такой хороший петух был! — пожалела Маруся.
— Ему б водочки, он ожил бы, — сказала бодро Махоня. — Да нету у меня. Он винные ягоды больно уж любит. Наклюется — и ну петь, да так-то громко!
— А что, разве там, во дворе, действительно… с двумя головами? — спросил Ваня, не удержав интереса.
— А пойдемте, покажу.
Вышли во двор, Махоня с лампой, — верно, по соломе возле Зорьки в сопровождении нескольких куриц гордо вышагивает двухголовый… В общем-то петух как петух, обыкновенного роста, только над туловищем у него шея раздваивалась; место раздвоения обрамляли очень живописно белые, голубые и красные перья. И вообще это был красивый петух, нрава дерзкого, воинственного и предприимчивого.
— Цыпы-цыпы-цыпы, — позвала Махоня и бросила перед собой горсточку зерен.
Курицы подбежали тотчас, без гордости, а двуглавый подошёл, не спеша, с достоинством, и стал клевать, вразнобой кланяясь обеими головами.
— Откуда он взялся? — спросил Ваня.
— Не знаю, — беспечно отвечала хозяйка. — Просто появился у меня во дворе и сразу же стал задираться с прежним. Заклевал его совершенно …
— Что ж, у тебя теперь и цыплята будут двухголовые? — спросила Маруся, улыбаясь.
— А вот поглядим.
«Что бы это значило? — размышлял Ваня. — Просто шутка природы или всё-таки знак свыше? Не может быть, чтоб просто вот так». Пока они стояли и разговаривали, в избе хлопнула дверь. Махоня ушла, потом вернулась во двор, крестясь: — Господи… нищие пошли… как в голодные годы… после войны.
— Старичок? — спросила Маруся.
— Нет, паренёк нездешний… попросил поесть. Дала ему яичко, он и ушёл.
Ваня с материю переглянулись.
— Разве всех накормишь! — вздыхая, продолжала Махоня.