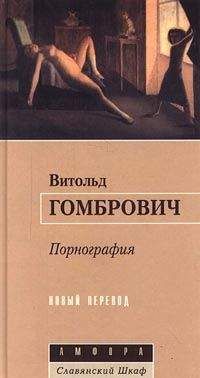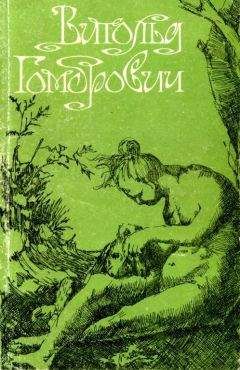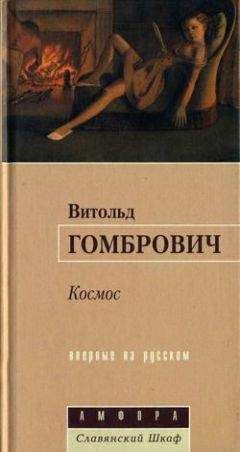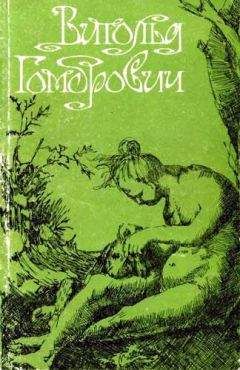Витольд Гомбрович - Дневник
И тем не менее я обязан толковать себя настолько, так далеко, насколько я в состоянии это делать. Во мне теплится убеждение, что тот писатель, который не может писать о себе, неполон.
Четверг
В течение нескольких лет подряд я проводил с К. по семь часов ежедневно в одной комнате — он был моим коллегой по работе, такой же, как и я, служащий — и я успел полюбить его… В прошлую пятницу я, как всегда, попрощался с ним, а в понедельник его не было за письменным столом. Его не стало, короче: он умер. Умер неожиданно и исчез так ощутимо, что как будто какая-то рука вырвала его из нас. Я увидел его еще раз, в гробу, где он выглядел как нечто назойливое, лезущее в глаза. Жалкое впечатление.
Время от времени кто-нибудь из коллег улетучивается таким образом, а мы, вобрав голову в плечи, говорим: хм, хм… (а что еще мы можем сказать?), и в воздухе повисает легкое замешательство. А ведь в подавляющем большинстве все мы, служащие, находимся в процессе умирания. Люди после сорока постепенно выматываются, стареют с каждым годом. На похоронах я думал, что это не живые прощаются с покойником, а умирающие прощаются с умершим. На кладбище в светлый послеполуденный час их лица, отмеченные печатью безнадежности, выглядели трупно, как тот труп в гробу, и каждый тащил себя, как наполненный смертью мешок.
В течение всего времени похорон омерзение медленной смерти, которую мы называем старением, давило на меня камнем, причем каким-то абсолютным, неизбежным камнем, камнем sans phrases[39]. Я размышлял также над той мистификацией, которая сопровождает это событие. Ибо среди людей нет и не может быть большего противоречия, чем противоречие между приходящей и уходящей жизнью, чем между развитием по восходящей и развитием по нисходящей, чем между человеком после тридцати, человеком, который уже начинает умирать, и человеком до тридцати, т. е. тем, который пока еще развивается. Это вода и пламень, тут что-то изменяется в самой сущности человека. Что общего у юноши со стариком, если каждый из них написан в своей тональности? Похоже, должны существовать и два разных языка: один для тех, у кого жизнь на подъеме, а другой для тех, у кого она убывает. Но этот контраст был, в сущности, замолчен; стареющие делают вид, что всё еще живут, и никто пока еще не создал особого слова для тех, кто вступил на путь умирания. Присмотритесь к искусству — оно делает всё возможное, дабы стереть фатальную границу. Прислушайтесь, как друг с другом разговаривают эти «взрослые» — тот же язык молодости, даже те же самые шуточки, то же самое заигрывание, разве что попахивающее тщетой и карикатурностью. А тот факт, что наш язык не меняется с момента перехода через фатальную границу, что между первыми и последними сонатами Бетховена нет непреодолимой пропасти, является убедительным доказательством того, что в своем индивидуальном существовании человек не может выразить себя, что он — само молчание, что он лишен выразительных средств.
Современная французская мысль о смерти представляется мне в высшей степени искусственной, как, впрочем, и все остальные mementa mori[40]. Они дают еще один пример того, насколько чужды нам наши мысли. Это пережевывание смерти показывает лишь то, что мы не в состоянии ее ассимилировать, ибо она — если бы мы действительно почувствовали ее присутствие — должна была бы лишить нас сна и аппетита, но она не мешает нам даже ходить в кино. Что же в таком случае говорить о заполненной предчувствием боли католической смерти с ее чистилищем и адом? Выходит, мы не очень проникаемся собственными мыслями, и кажется, что мысль эта мыслится сама собой, по-гегелевски, то есть сама себя и мыслит.
А потому я не верю, что смерть может быть истинной проблемой человека, и считаю, что произведение искусства, не принятое полностью, не является произведением в полном смысле аутентичным. Истинная наша проблема — это старение, т. е. такой вид смерти, которому мы подвергаемся ежедневно. И даже не само старение, а то его свойство, что оно так бесповоротно, так безжалостно отрезано от прекрасного. Нас мучает не столько наше медленное умирание, сколько то, что нам становится недоступным очарование жизни. Я заметил на кладбище мальчика, который прошел среди могил, как существо из иного мира, существо загадочное и буйно цветущее, в то время, как мы были похожи на нищих. Поразило меня, однако, то, что я не ощутил нашего бессилия как чего-то абсолютно неизбежного.
И это возникшее во мне ощущение сразу же мне понравилось. Я цепляюсь только за те мысли и ощущения, которые мне нравятся, я не способен ни подумать, ни прочувствовать ничего такого, что бы меня совершенно уничтожало. Вот и теперь я пошел по линии мышления, которое именно так и возникло во мне, потому что вселяло надежды. Неужели так и нельзя связать зрелый возраст с жизнью и молодостью? Та искусственность, к которой я все больше привыкаю в человеке, эта медленно и упорно растущая во мне idée fixe, что устрашающая конкретность нашей формы, наших контуров не единственная возможность; и если раньше я считал, что все уже сказано, то сегодня меня окружают бесчисленные комбинации идей и форм, и все вокруг становится плодотворным. (Здесь я хотел бы отметить, что примерно полчаса я искал те выражения, которые написаны ниже. Поскольку, как всегда, я ставлю проблему, не зная ответа, опираясь только на интуицию, что решение возможно, для меня возможно, — а на кладбище я не продумал этого вопроса до конца.) По-моему, молодость в глубине души не любит собственной красоты и от нее защищается, и эта неприязнь к прекрасному в ней более прекрасна, чем сама красота, — вот в чем единственная возможность преодолеть убийственную дистанцию.
Пятница
Гедройц хотел, чтобы я ответил Чорану (румынскому писателю) на его статью «Плюсы и минусы изгнания». В этом ответе заключается мой взгляд на роль литературы в изгнании.
Хотя от слов Чорана несет подвальным холодом и могильным смрадом, его слова — слишком мелочны. О ком, собственно, речь? Кого следует понимать под определением «писатель в изгнании»? Адам Мицкевич писал книги — и г-н X. тоже пишет книги, причем вполне приличные и пользующиеся спросом у читающей публики, оба они — «писатели», притом, заметьте, в изгнании… но на этом и кончается сходство между ними.
Рембо? Норвид? Кафка? Словацкий?… (разные бывают изгнания). Я думаю, что никто из них слишком не испугался бы этой разновидности ада. Печально не иметь читателей — очень неприятно не иметь возможности издавать свои произведения — очень несладко пребывать в неизвестности — чрезвычайно прискорбно ощущать себя лишенным помощи того механизма, который выталкивает наверх, пропагандирует и организует славу… но искусство начинено элементами одиночества и самодостаточности, оно удовлетворяется самим собой и находит свое оправдание в себе самом. Отчизна? Но ведь каждый из выдающихся в результате своей исключительности был иностранцем в собственном дому. Читатели? Они ведь никогда не писали «для» читателей, а всегда «наперекор» читателям. Успех, резонанс, почитание, известность — но ведь они стали известными как раз потому, что больше, чем свой успех, ценили самих себя.
И то, что в каждом, даже меньшего калибра, литераторе есть от Кафки или от Конрада или от Мицкевича, то, что является истинным талантом и истинной высотой или истинной зрелостью, — никакими силами не запихнуть в чорановский подвал. Хотелось бы также напомнить Чорану, что не только эмигрантское, но и всякое вообще искусство находится в самой тесной связи с разложением, рождается из упадка, что оно является превращением болезни в здоровье. Что вообще всякое искусство ходит рядом с осмеянием, поражением, унижением. Разве существует такой художник, который бы не был, как говорит Чоран, «существом амбициозным, агрессивным в своем падении, озлобленным покорителем»? Видал ли когда-нибудь Чоран художника, писателя, который бы не был, не должен был быть мегаломаном? Искусство, как когда-то справедливо заметил Бой, — это кладбище: на тысячу тех, кто не смог осуществиться, состояться в сфере болезненного несовершенства, всего одному или двум удается «осуществиться» по-настоящему. Эта грязь, эта желчь неудовлетворенных амбиций, это метание в пустоте, эта катастрофа — все это имеет мало общего с эмиграцией, но много с искусством, является характеристикой каждого литературного кафе, и воистину не все ли равно, где, в каком из уголков этого мира мучается желанием стать настоящим писателем тот, кого еще не вполне считают таковым.
А может, оно и к лучшему, что они остались без поддержки, без аплодисментов, без тех мелких нежностей, которыми их в старые добрые времена осыпали государство и общество во имя «поддержки национального творчества». Привычная игра в величие и незаурядность — сочувственный шум, создаваемый благодушно улыбающейся прессой и неуравновешенной, лишенной представления о соразмерности явлений критикой, — этот процесс искусственного раздувания кандидатов на звание «национального писателя»… разве все это не отдавало пошлостью? Результат? Те народы, которых хватило бы в лучшем случае на нескольких подлинных артистов, разводили в этом питомнике целые отряды знаменитостей, а в миленьком семейном тепле, представляющем из себя смесь тетушкиного благодушия и циничного пренебрежения ценностями, таяла любая иерархия. Что же удивляться, что тепличные растения, взращенные в лоне народа, вянут вне этого лона? Чоран рассказывает, как гибнет писатель, оторванный от своего общества. А может, писателя такого никогда не было на самом деле, а был лишь эмбрион писателя.