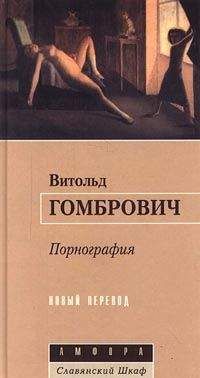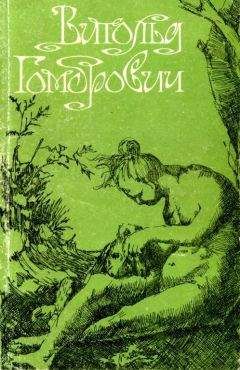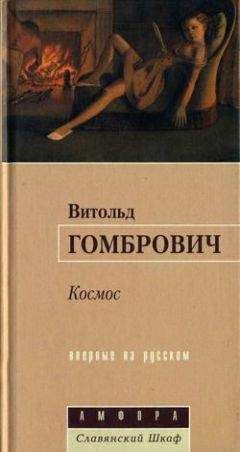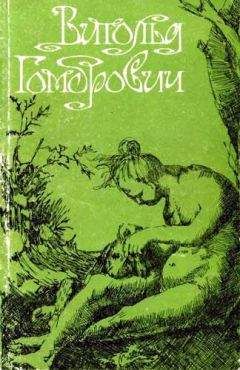Витольд Гомбрович - Дневник
Делаю вывод для себя: надо этот факт иметь в виду, никогда не выпускать его из поля зрения, искать ту точку, в которой божественное сходится с человеческим, поскольку от этого зависит все будущее моего мышления. Никогда не забывать, что современные веры даже в самых бурных своих проявлениях — это уже не вера в старинном значении этого слова. Тот, кто хочет верить, очень сильно отличается от того, кто верит. Акцент, сделанный современностью на созидание веры, как раз свидетельствует о том, что готовой веры не хватает. Вне зависимости от того, какие у кого кредо, мы все должны сменить курс с мира откровения, мира готового, на мир созидающийся — если этого не произойдет, исчезнет последняя возможность прийти к взаимопониманию.
Четверг
Концерт в театре «Колон».
Что может значить даже самый лучший виртуоз по сравнению с настроем моей души, которая сегодня днем была насквозь пробита фальшиво кем-то спетой мелодией, а сейчас, вечером, она с отвращением отталкивает ту музыку, которую на золоченом блюде вместе с фрикадельками подал одетый во фрак мэтр. Не обязательно еда в первоклассном ресторане вкуснее. Впрочем, мне искусство больше говорит, если оно открывается мне не в блеске совершенства, а случайно и отрывочно, как бы лишь намекая на свое присутствие, давая возможность почувствовать себя через неудачную интерпретацию. Я предпочел бы Шопена, доносящегося из окна на улице, чем Шопена со всеми нюансами с концертной эстрады.
Этот немец-пианист скакал под звуки оркестра. Укачанный звуками, я колыхался в каком-то мареве: то воспоминания, то опять какое-нибудь дело, которое предстоит завтра, то собачка Бумфили, фокстерьерчик… Тем временем концерт шел полным ходом, а пианист несся во весь опор. Он кто — пианист или конь? Я бы мог поклясться, что тут дело вовсе не в Моцарте, а в том, возьмет этот борзый конь Горовица или Рубинштейна в ежовые рукавицы. Всех присутствовавших обоего полу волновал вопрос: какова классность этого виртуоза. Достигают ли его piano уровня Аррау, а его forte — уровня Гульды? Мне чудилось, что я на боксерском матче и вижу, как он боковым пассажем достал Браиловского, как он октавами врезал Гизекингу, а трелью послал в нокаут Соломона. Пианист, конь, боксер? Потом мне представилось, что это боксер, оседлавший Моцарта, как он едет на Моцарте, лупит по нему, бьет, охаживает хлыстом и колет шпорами. Что это? Достиг финиша! Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты! Жокей слез с коня и начал кланяться, утирая лоб платком.
Графиня, с которой я сидел в ложе, вздохнула: «Чудо, чудо, чудо!»
Подал голос ее муж, граф: «Я, конечно, не знаю, но мне показалось, что оркестр запаздывал…»
Я посмотрел на них как на животных! Как же это невыносимо, когда аристократия не умеет себя вести! От них так мало требуется, а они даже этого не могут сделать! Эти особы должны были знать, что музыка — всего лишь предлог для собрания общества, частью которого они были вместе со своими манерами и маникюрами. И вот, вместо того, чтобы остаться на своей территории, в своем великосветском обществе, они задумали отнестись к искусству всерьез, почувствовали необходимость робко отдать честь, но, вынутые из аристократизма, они попали в пошлость! Я охотно смирился бы с чисто формальными фразами, сказанными с цинизмом людей, знающих цену комплименту… они же силились быть искренними… бедняги!
Потом мы перешли в фойе. Мой взгляд остановился на замечательной толпе, которая кружила и раскланивалась. Ты видишь миллионеров X, Y? Смотри, смотри, там генерал с послом, а дальше председатель курит фимиам перед министром, посылающим улыбку госпоже профессорше! Я считал, что я нахожусь среди героев Пруста, поскольку на концерт они шли не затем, чтобы послушать, а лишь для того, чтобы освятить его своим присутствием, не иначе: дамы втыкали себе в волосы Вагнера как бриллиантовую заколку, а под звуки Баха шел парад фамилий, званий, титулов, денег и власти. Но что это, что это? Когда я влился в их ряды, наступили сумерки богов, пропали величие и мощь… я услышал, что они делятся впечатлениями от концерта… робкими, смиренными, полными уважения к музыке, но вместе с тем их высказывания были менее качественные, чем у любого aficionado[34] с галерки. Значит, всё у них свелось к этому? И тогда я увидел в них не председателей, а учеников пятого класса средней школы; но поскольку я с отвращением вспоминаю школьные годы, я оставил эту робкую молодежь.
И вот я, сидя в ложе, предался размышлениям, я, современный, я, лишенный предрассудков, я, противник салонов, я, у которого бич поражения выбил из головы капризы и спесь, и думалось мне, что мир, в котором человек обожествлялся музыкой, меня убеждает больше, чем мир, в котором человек обожествляет музыку.
Потом началось второе отделение концерта. Оседлав Брамса, пианист погнал его галопом. Никто, собственно говоря, не знал, что исполняется, потому что техническое совершенство пианиста не позволяло сосредоточиться на Брамсе, а совершенство Брамса отвлекало внимание от пианиста. Но всё же он доехал. Аплодисменты. Аплодисменты знатоков. Аплодисменты любителей. Аплодисменты невежд. Аплодисменты стада. Аплодисменты, вызванные аплодисментами. Аплодисменты, сами собой растущие, громоздящиеся друг на друга, друг друга подбадривающие, вызывающие — и уже никто не мог не хлопать, поскольку хлопали все.
Мы пошли за кулисы поприветствовать артиста.
С бледной улыбкой блуждающей кометы артист пожимал руки, обменивался любезностями, принимал комплименты и приглашения. Я смотрел на него и на его величие. Он сам казался очень приятным, впечатлительным, интеллигентным, культурным… но его величие? Он носил на себе это величие словно фрак, и действительно, разве оно не было скроено для него портным? При виде стольких знаков почтения могло бы показаться, что нет большой разницы между его славой и славой Дебюсси или Равеля, его имя ведь тоже было на устах толпы, и он тоже, как и они, был «художником»… И всё же… и всё же… Был ли он так же известен, как Бетховен, или как бритвы «Жилетт», или как авторучки Ватермана? Но какая разница между той славой, за которую платят, и той, на которой зарабатывают деньги!
Но он был слишком слаб, чтобы противопоставить себя тому механизму, который его возвышал, от него не следовало ожидать сопротивления. Совсем напротив. Он плясал, когда ему играли. И играл тем, кто вокруг него пляшет.
[4]
Пятница
Пишу этот дневник с нежеланием. Меня мучает его неискренняя искренность. Для кого я пишу? Если для себя, то почему это тогда идет в печать? А если для читателя, почему я делаю вид, что разговариваю сам с собой? Разговаривать с самим собой, чтобы тебя слышали другие?
Как я далек здесь от той уверенности и размаха, которые играют во мне, когда я — прошу прощения — «творю». Здесь, на этих страницах, я чувствую себя так, будто я из благословенной ночи выхожу на резкий свет утра, наполняющий меня зевотой и выпячивающий наружу мои недостатки. Сидящая в самой основе моего дневника фальшь делает меня робким, и я извиняюсь, извиняюсь… (впрочем, возможно, эти последние слова излишни, претенциозны?).
Однако я понимаю, что надо быть самим собою на всех этажах писательства, а это значит, что я должен быть в состоянии выразить себя не только в драме или поэме, но также и в обычной прозе — в статье или в дневниковой записи, — и полет искусства должен найти соответствие в сфере обычной жизни, как тень, которую кондор отбрасывает на землю. Более того, этот переход в мир повседневности из самых далеких закоулков, чуть ли не из подземелья, является для меня делом непомерно важным. Я хочу быть воздушным шариком, но на веревочке, хочу быть антенной, но с заземлением, чтобы быть в состоянии переложить себя на обычный язык. Но — traduttore traditore[35]. Здесь я выдаю себя, здесь я ниже себя.
Трудность состоит в том, что я пишу о себе, но не ночью, не в уединении, а в газете и среди людей. В этих условиях я не могу отнестись к себе с должной серьезностью, я вынужден быть «скромным»; и снова меня мучит то же самое, что меня терзало всю жизнь, что так повлияло на характер моих отношений с людьми, — необходимость пренебречь собой, чтобы подладиться под тех, кто пренебрегает мною, или под тех, кто не имеет обо мне никакого понятия. И этой «скромности» я ни за что не хочу поддаться, я вижу в ней моего смертельного врага. Счастливые французы — они пишут свои дневники тактично, но я не верю в ценность их тактичности, я знаю, что это всего лишь тактичный уход от проблемы, которая по сути своей является проблемой индивидуальной.
Однако я должен взять быка за рога. Я с детства посвящен в эту проблему, она росла вместе со мною, сегодня я должен чувствовать себя по отношению к ней совершенно свободно. Я знаю, я уже неоднократно говорил о том, что каждый художник обязан быть претенциозен (поскольку он претендует на цоколь памятника), и что сокрытие этих претензий является ошибкой стиля, доказательством плохого «внутреннего решения». Ясность. Надо играть в открытую. Писательство — это не что иное, как борьба, которую художник ведет с людьми за собственную исключительность.