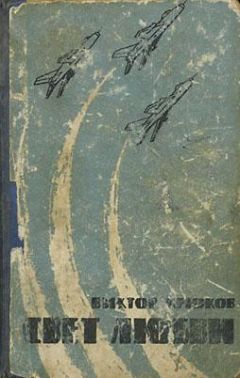Сергей Самсонов - Железная кость
— Садись! Счас зайдет он на нас, сука, ящер летучий! Собирайте вокруг себя сено шалашиком.
Осторожно, как мог, опустился он вместе с Бакуром, но Бакур все равно, повалившись на землю, заревел сквозь зубовное сжатие с усталой, угасающей мукой парнокопытного.
— Ничего, друг, ниче, потерпи, мы сейчас… — Из Валерки рванулось дебильно-напрасное, и не знал, что такое можно сделать сейчас и куда они с ним, мертвым грузом, самим понимающим, что уже не ходок, и стирающим зубы, быть может, не только от боли, а еще от бессилия, понимания, что лично для него уже кончилось всё… И не бросишь ведь тут одного подыхать…
И вот в это мгновение хлынул настоящий, безжалостный свет: над оврагом завис вертолет и погнал к ним волну за волной по бурьяну — тек и тек этот ветер, вынимая напором из оврага весь воздух, пригибая к земле, как лопатой, и вжимая Валерку в пахучую землю; сердце билось во всем его теле, толкаясь сваебойкой в землю все глубже и глубже, добивая туда, где живучие, цепкие корни травы, — перейти целиком в эту землю хотелось, прорасти отворенной кровью, впитаться — чтоб в себя вобрала, затянула тебя плотоядной силой своей, материнской тучной лаской, сжалилась, скрыв от этого ветра и белого беспощадного света… И когда, вмерзнув в землю, перестал ждать чего бы то ни было, ничего не желая уже — ни высотного звона металла «Выходи и сдавайся, паскуды, и тогда вас Россия помилует!», ни огромной по силе свободы от этого рева и грохота, — вот тогда вертолет пошел дальше, убирая прожекторный луч, и живой водой, земляной могильной стылостью, вечным покоем затопила овраг по края неподвижная тьма. А они еще долго лежали, припаявшись к земле и вбирая утихавшую где-то на западе дрожь, и опять первым ожил, раскидав свой шалашик, Орех:
— Сидор где мой, мешок? Посвети, — бросил чем-то в Угланова и возился уже над Бакуром, загремели в коробочке ампулышприцы… — Потерпи, брат, сейчас будет кайф. — Прямо ампулой в ногу и ткнул. — Подыми ему ногу, держи. — Затолкал в рану ватную шкурку сноровисто и окручивал споро и яростно ляжку бинтом.
— Как мы с ним теперь дальше? — заработал в Угланове клапан запорный, выпуская сипение, нутряной шаткий вздрагивающий голос, луч фонарика дергался, колотило всего. Показалось, сказал, как про падаль… А когда он, Угланов, стыдился кого?.. Да и что еще было ему — пожалеть? Ну а что она даст, эта жалость?
— Да вот тут прям и бросим, доходит пускай, — мерзло хрустнул в Орехе какой-то рычаг. — Не кипи, шопенфиллер. Деревня тут близко, потаганим туда, все наметано, корешок в домовушне схоронит, у него там погребец такой — бункер Гитлера, ни с какими собаками лягаши не найдут.
— Это крюк сорок верст? Перекроют нам все! Вообще уже наглухо! — Так смотрел на Ореха Угланов, словно кнопку искал у того в голове, что отпустит его с засосавшего топкого места, разожмет и расцепит все лямки между ним и подраненным, вяжущим по рукам и ногам человеком. — Может, все тогда разом в подвал? И сидеть там до атомной бомбы! Дай ему телефон… Есть же ведь у тебя, с корешком этим чтобы связаться… И веди нас без всяких крюков, слышишь, ты, а иначе никто, ни один не уйдет! Слышишь, кто-то один, хоть один обязательно должен уйти! Ну скажи ему, вор! — заглянул выкорчевывающим взглядом в Бакура. — Ну вот так всё — прощения у тебя мне за это попросить?! Ты сломался, ты, ты! Мог бы я точно так же, мог он! Я сейчас бы лежал ровно с тем же успехом на одном костыле! Ведь на равных мы шли, даром что ты по горло в говне. Кто-то должен уйти! Согласись, справедливо! Он вот, он, — на Валерку мотнул головой. — Десять лет тут ржавел, половину тут жизни оставил и другую оставит, если ты его будешь вязать, уж прости, по рукам и ногам. Вообще вот тогда он не жил! Я ж тебе ничего уже больше сейчас не могу обещать — денег нету таких, посмертно ничего не надо никому! Отпусти! Отпусти его с нами, Ореха! Или что — если сам ты не смог, инвалид, то и нам тогда, значит, не жить?! Ты такой справедливости хочешь?! Я подох, ты подох — значит, вместе мы живы?!
— Подымай его, твердый. — Орех видел только Чугуева и углановских всех заклинаний не слышал, все решив для себя еще там, у разбитой машины: только он здесь решает, кому куда двигаться, никого не держа и не тратясь на тяжелые взгляды в глаза и пустой перебрех.
И Угланов, слепой и потерянный в этом месте земли, мог сейчас лишь затиснуть в себе все свои «я, я, я…» и бежать за Орехом, с точным знанием, что только так, доверяясь туземному нюху, сможет он себя вытащить, может быть, из ничтожества… ну а он уже пер на себе онемевшего вора, Чугуев, — сквозь колючий бурьян, сквозь туман, что свалявшейся ватой сползал в пересохшее русло… шли и шли по протяжной извилистой трещине глубиной где в три, где четыре, где, наверное, в пять этажей, перестав продираться сквозь цепкие дебри.
Все равно телепаться приходилось, конечно, с чугуевским грузом по неровностям этого бесконечного дна, и светало уже, и так быстро, что как будто бы солнце было шаром воздушным с какой-то реактивной горелкой или даже ракетоносителем, просто слишком далеким, чтоб услышать его байконуровский рев, и уже густо-розовым светом озарился обрывистый склон, стало видно его рыжину, пестроту, обнажились цвета каменистой земли и травы, засинели цветки, и зайди вот сейчас вертолет на овраг — нипочем бы уже не укрылись. И куда они, как среди белого дня? Если ночью уже стрекотал над землей птеродактиль, то сейчас уж тем более зависнут над границей России вертушки и почешут солдатики цепью, но от этого знания ноги его не подкашивались — был Чугуев свободно-пустым, жизнь уже раскачала его, как валун, и толкнула под горку, и сейчас он, Чугуев, катился до далекого неразличимого, неизвестного дна, навсегда сам себя не могущий поставить на тормоз, но и сам разгонял и усиливал эту тягу своим существом. Смысл был для него в самом беге, в усилии выбежать из себя самого, из судьбы, смысл был в несогласии на участь, а не в том, что ее пересилить нельзя и иной для Чугуева не предусмотрено.
Русло выгнулось вверх, выводя напрямик их в густую посадку, и сразу проступили сквозь буйную зелень голубые облезлые прутья ограды, поразив его близостью человеческого устроения, жилья, и повел их Орех, как по следу, по запаху, сквозь крапиву по пояс, лопухи со слоновье ухо, меж березовых косм и кривулин шершавых стволов, меж железных крестов и заросших травой оплывших могильных холмов, мимо бедных надгробий, металлических, крашеных серебрянкой воинских звезд и эмалевых фотографий в овалах, на которых налитые соками жизни стеснительно-робкие молодые губастые лица будто сами еще до сих пор не уверились, что они уже здесь и отсюда, из земли, им уже никуда; вот такие же точно лежали в земле трактористы, слесаря, комбайнеры, механики вечных двадцати пяти лет, каким сам был Чугуев до зоны и каким был угробленный им милицейский сержант Красовец — гладко-розовым, кровь с молоком вырвидубом, ошалевшим чуток от избытка своей неуемной немереной силищи; громоздились вповалку, как бревна развалившегося от естественной старости дома, серебристо-седые, щелястые и погнившие до черноты в основании кресты, попадались пустые бутылки поминальных распитий в траве, пестрели на могилах россыпи конфетных приношений, насыпанная на расклев пернатым пшенная крупа, пластмассовые хвойные венки с линялыми бумажными цветками, а живые живучие, жадные, однолетние вечные полевые цветы и трава все опутали и заглушили, что когда-либо было посажено в эту могильную землю и принесено берегущими память о мертвых руками.
Меж березовых косм, сквозь зеленое пламя листвы завиднелся лоскут перепаханной трактором под картошку земли, и вот если б открылись там белые льды, беспредельная Арктика или Луна, то не так бы в Чугуеве дрогнуло всё — как споткнулось и рухнуло, налетев на обычность, яснопамятность чистой, законной трудовой человеческой жизни, неизменной, незыблемой, невозбранно идущей по кругу дождей и снегов, раскаленных чугунных закатов и розовых зорь: неизвестные русские люди здесь росли, как трава, и сходили с земли в предначертанный срок, как растаявший снег, и ведь этого, этого он, Чугуев, себя и лишил с потрошащей бесповоротностью — правды свободы, потому что свобода обретается только в способности жить, как растешь. Ну а дальше за полем протянулась лужайка между длинным сараем и банькой-мазанкой, поперек — паруса с кружевами, бельевые веревки на воткнутых в землю шестах, и вот тут только все и увидели, повалившись без ног на опушке, друг на друге багровые свежие ссадины и надутые кровью набрякшие шишки и почуяли всей своей общей шкурой, как они все избиты машинным железом и изодраны с ног до макушки непролазной дикой природой Ишима, вот не то чтобы просто равнодушно-глухой и упрямой, а способною чувствовать, постигать человека, что внедрился в нее со своей душой и грузом всего прожитого. И сейчас будто эта природа не желала пустить их ни к этому дому, ни на волю вообще, словно нет и не может им быть от земли никогда уже больше прощения, ни большому Угланову, ни простому Чугуеву — слишком много на них несмываемой грязи и крови, слишком уж запоздалым, навсегда опоздавшим за убойным движением руки и не нужным уже никому было в нем, дураке, покаяние, слишком уж тяжело самомнение, самолюбие было в Угланове, чтоб земля захотела их по-матерински принять, своевольно ломящихся из отведенной им зоны, из участи.