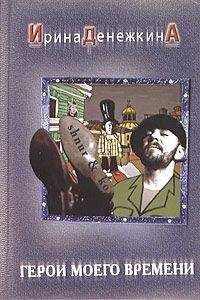Владимир Масян - Игра в расшибного
Почему тогда у Людмилы с Котькой всё шло кувырком? Лагутина начала психовать. И сделала первую ошибку, когда спросила Карякина в лоб: «Ты охладел ко мне?»
Костя не то, чтобы смутился, но как-то уж очень долго и напряжённо смотрел ей в глаза.
— Мать сильно болеет. Я боюсь за неё, — наконец, пояснил он.
Милка решила, что кавалер ушёл от прямого ответа.
— У меня скоро каникулы перед дипломом. Хочу навестить родителей. Поедешь со мной?
— Разве ты не слышала, что я сказал?
И тогда она допустила вторую ошибку:
— Но осенью тебя всё равно заберут в армию!
— Забирают в милицию! — пыхнул гневом Котька. — В армию призывают! А вот если тебе всё равно, то можешь быть свободна!
Это была их первая размолвка. Милкина подушка не просыхала от слёз, а Карякин упорно обходил стороной общежитие железнодорожного техникума. Как назло, Валерка простудился на рыбалке, получил бюллетень и отлёживался дома. У Вовки была практика на северном Урале. Информацию о Котьке девчата могли получить от Натахи Мельниковой, но та готовилась к свадьбе и кроме Вадима никого не замечала вокруг. Тогда у Милки и созрела мысль, назло всем тоже выскочить замуж.
Как в сказке, откуда-то появился Игорь, уже в лейтенантских погонах. Настрочили заявление в ЗАГС, купили белоснежное платье с фатой, примчались родители. Все ахали и охали, плакали, кричали, ругались…
А обиженный Котька больше не приходил. И если бы не Валерка, то кто знает, как повернулась её жизнь.
С Костей она встретилась только через три с половиной года. Сказала просто: «Понимай, как хочешь, а я жить без тебя не могу. Извелась вся». «Кто тебя не пущает, живи!» — улыбнулся он также легко и простодушно. И Милка поняла, что прощена.
V
Десятый час утра, а народу на берегу — не протолкаться. Серый колючий бетон от парапета до воды устлан разноцветными надувными матрасами, байковыми и фланелевыми одеялами, махровыми китайскими полотенцами, домашними и гостиничными простынями, на которых по одному и кучками сидели, лежали и стояли отдыхающие. Кто-то подставлял лицо и загорелые руки навстречу льющемуся сверху жару, кто-то наоборот, укрывался до подбородка газовой косынкой и прятал чувствительные плечи под соломенными зонтами. Где-то уже завтракали бутербродами, а где и закусывали пятикопеечными пирожками с ливером, которыми торговал расторопный и загорелый, как головешка, паренёк. Он доставал их вилкой из корзины, примотанной к худому тельцу через плечо стареньким шарфом, да так быстро, что казалось, будто кулебяки сами взлетают к протянутым рукам покупателей.
— С чем пироги-то, парень? — кричали отовсюду, куда проникал запах калёного масла.
— В наши пироги чё не заверни, всё одно — любому ротку в радость! — звучало в ответ. — С пылу, с жару! Кипит, шипит, чуть не говорит! Налетай — покупай, покудова пирожковую пошлину не ввели!
Кругом шум, гам, смех, крики и визг купающихся, писк ребятишек, окрики бдительных родителей. Разговаривать можно только на повышенных тонах. И то не факт, что ваши слова не утонут в хрипах Малежика и подпевающей ему группы «Сокол», которые вырываются из готового лопнуть от громкости бело-чёрного вэфовского транзистора. Модных эстрадников пытаются переорать мальчишки, отбивая разом на трех гитарах Битлов и безбожно коверкая английскую речь. К тому же неподалёку пьяненький мужичишка терзает саратовскую гармонь и слёзно просит окружающих подпеть ему саратовские страдания.
— Во цирк! — присвистывает Котька.
— Здесь и притулиться негде, не то, что сесть, — растерянно оглядывает Вера бесконечное море людских голов. — Говорила, раньше собираться нужно.
— Приходите завтра! — прыснула Милка и оскалила ровные мелкие зубки, искоса поглядывая на Костю.
Она знала, что комедия «Приходите завтра», которую больше года крутили в прокате, безумно нравилась Карякину. Подразумевалось, что в героине фильма Фросе Бурлаковой, точно «по жизни» сыгранной актрисой Екатериной Савиной, он нашёл её, Милкины, черты.
— Будем искать бабу с вислом! — понимающе глянул на неё Котька. — Идём на базу!
И троица решительно повернула в сторону бывшей лесопилки.
Там, где когда-то быстрое течение Волги омывало смолистые бока многоярусных тяжёлых плотов, теперь были причалины отслужившие свой век колёсные пароходы, по бортам которых, закрывая старые имена судов, крепились фанерные щиты с яркими надписями «Буревестник», «Динамо», «Локомотив», «Спартак». То были водные базы одноимённых спортивных обществ.
От внешнего мира и друг от друга базы были отгорожены крепкой сеткой-рабицей, у длинных и широких сходен сидел вахтенный дежурный, который проверял у молодых спортсменов членские билеты. Постороннему попасть на заветный пароход, а уж тем более на дощатый причал, что крепился на понтонах к судну со стороны Волги, и где спускались на воду байдарки и каноэ, было невозможно. Поэтому большинству просителей оставалось только вздыхать, с завистью разглядывая в волнах трассеры из красных поплавков — верёвочные дорожки для пловцов, в жару часто пустовавшие.
Надо сказать, что старинные пароходы, каюты и залы которых были отделаны красным деревом, и без растащенной мебели были, пожалуй, лучше тогдашних даже профсоюзных гостиниц, а столовые для спортсменов можно было использовать и для угощения гостей. Но ни руководству спортивных обществ, ни тренерам даже в голову не приходило заниматься коммерцией. Они и так могли принять на базе и обслужить по высшему разряду любую делегацию: с катанием на катерах, волжской ухой и шашлыками на островах. Начальство даже не заметило появление в обслуге подобных мероприятий услужливых и всё умеющих парней, которые незаметно вытеснили штатных сотрудников и стали командовать базами. Щедрость этих людей, грузивших в багажники машин начальников больше провизии и алкоголя, чем было запасено для пикников, поначалу радовала, но вскоре для многих обернулась крепкой удавкой. Тогда впервые стали поговаривать о воровских авторитетах, вокруг которых тёрлись бакланы из бывших спортсменов и несостоявшихся тренеров.
На базе «Буревестника» хозяйничал Лёнька Манкевич, который к тому времени держал под пятой центр города вдоль Волги, от парка культуры и почти до Глебучева оврага. Манкевич раз пять сидел в КПЗ под следствием, но всегда выходил на свободу до суда. Не зря Саня Кич поставил расчетливого и жестокого Лёньку своим смотрящим.
Карякин на дух не переносил понятия блатных о жизни, убеждаясь, что честное воровское слово имело смысл лишь среди самих воров. Обжуливать остальных считалось их обычным делом. Времена английского благородного разбойника Робин Гуда и байроновского Корсара канули в лету, зато нашлись достойные наследники у русского Ваньки Каина. Не менее преуспели на этом поприще и единокровные потомки Бени Крика из Одессы. А по пятам нахально лезли в центральную Россию «лаврушники» с Кавказа и Закавказья.
Так или иначе, но к середине шестидесятых годов двадцатого столетия этот блатной кагал ещё был единым в едином пространстве огромной державы и управлялся «бродягами» — ворами в законе. Как ни странно, бродяги отвечали за паритет между бандитами и населением. Поэтому в обычном общении с «народом» авторитеты строили из себя правдолюбцев и больших либералов. Русские воры к тому же кичились своим патриотизмом.
Может, потому и у простого человека, в котором живёт стихийный протест против всякого насилия, в отношении к преступнику в душе всегда смешиваются осуждение, любопытство и сочувствие. Конечно, никаких таких «аналитических» мыслей в голове у Карякина не рождалось, но морячок носом чуял, что для всех уютного места под солнцем становилось мало.
В школьные годы Котька занимался греблей на байдарке и знал, как облупленных, многих бойцов Лёнькиной «мазутки». Не хуже милиции знал и тех, кого они сажали на пику — торгашей и спекулянтов, хотя дела у Манкевича ни разу не доходили до мокрухи. Не потому, что он был такой ушлый: просто в годы страшного дефицита товаров и продовольствия за жизнь воротил чёрного рынка не дал бы медный грош и последний бродяга. Рыночные барыги за счастье почитали платить дань ворам, лишь бы не трястись от страха быть ограбленными.
Водил дружбу Костя и с мастерами спорта, которые смотрели на мельтешение бакланов, как на блох, повылезавших поверх собачьей шерсти после лютой зимы. А кому не ведомо, что у всякого своя блошка, своя вошка!
По сю пору Котька брал на базе спортивную шлюпку, чтобы у бакена на выходе из ямы подёргать на отвесную блесну судака или половить леща на кольцо. Но чаще Карякин нырял под крыло деревянного буревестника после заводской смены, чтобы посидеть с дружками, такими же работягами, и спокойно, без оглядки на шныряющих по пивным и закусочным борзых оперативников из комсомольских отрядов, выцедить стаканчик дешёвого портвейна, да покалякать за жизнь. Одним словом, Костя не был на базе чужаком.