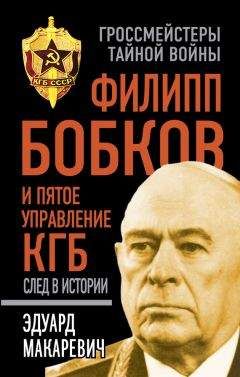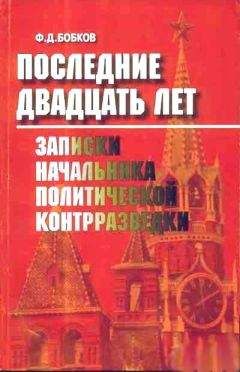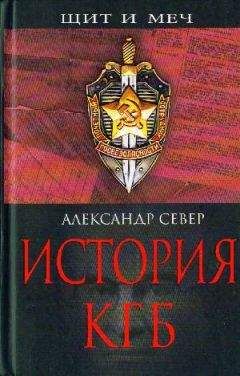Владимир Архангельский - Фрунзе

Обзор книги Владимир Архангельский - Фрунзе
Владимир Архангельский
Фрунзе
Прощай, Семиречье!
Я родился в 1885 г. в г. Пишпеке Семиреченской области Туркестанского края. Отец мой — по происхождению крестьянин Захарьевской волости Тираспольского уезда Херсонской губернии. По национальности — молдаванин. При поступлении на военную службу был отправлен в состав Туркестанских войск. По окончании военной службы остался в Семиречье, где служил фельдшером. Мать моя — из крестьян Воронежской губернии, переселившихся в 70-х годах в Семиречье.
Получивши начальное образование в школе, я поступил в гимназию в г. Верном, которую и окончил в 1904 году.
М. ФрунзеНа рубеже XX века мало кто знал, что есть на свете Пишпек — саманный и пыльный городишко на дальней юго-восточной окраине Российской империи. Немного больше знали о его ближайшем соседе — городе Верном. И то лишь по той причине, что бывали там землетрясения, о которых губернатор фон Таубе давал подробные интервью в столичных газетах.
И вот из Пишпека три недели кряду — на перекладных и в поезде — добирался до белокаменной столицы вчерашний абитуриент Верненской гимназии, почти уже студент Санкт-Петербургского политехнического института Михаил Фрунзэ[1].
Он не сомневался, что его примут: прошение на имя директора института было послано своевременно — два месяца назад. А в вещевой корзине среди белья хранилась у него очень хорошая бумага. В ней четко было писано, что гимназию он окончил «с золотой медалью, имея в аттестате при отличном поведении и прилежании круглые пять по всем предметам».
В свои девятнадцать лет он был завидно здоров: ладно скроена коренастая фигура, литые мышцы, девически нежный румянец на загорелом чистом лице. И высокий открытый лоб, а над ним — задорный ежик. И глаза — такие серые, ясные, добрые, что иногда казались голубыми.
Золотая медаль открывала ему дорогу в любое высшее учебное заведение страны: царские чиновники почитали медалистов людьми благонадежными. Михаил определил свое призвание еще год назад: только Санкт-Петербург, политехникум, экономическое отделение.
Здоровый и жизнерадостный, он и смеялся раскатисто, хотя временами и подступала боль к сердцу. Старший брат Константин уехал врачом на фронт, и с весны не было от него писем. Что с Костей? Жив ли он — товарищ и друг, наставник и кормилец, заменивший ему отца в суровую годину. И память об отце обжигала: умер он как-то нелепо, вдруг, когда ему едва минуло сорок пять. И похоронен далеко от семьи, в захолустном Мерке, который даже с Пишпеком сравнить нельзя: так он мрачен и глух. И мама! Каково-то будет ей с тремя девочками, коль добывает она пропитание тяжким трудом то портнихи, то прачки…
Но юности несвойственно думать о том, что было, она стремится к тому, что будет. И Михаил не составлял исключения.
— Все обойдется, все обойдется! — успокаивал он себя. — Я не буду обузой для семьи. И Костя наверняка объявится, и маму с сестренками мы не оставим!
Он мечтал о будущем. Но и прикидывал в уме, как сложится на первых порах жизнь в Питере: институт, новые товарищи и, конечно, жаркие споры о призвании. Разумеется, не исключены и уроки для всяких отстающих шалопаев, как это было в Верном, когда он обучался в шестом-восьмом классах гимназии. И тревожился: ведь и до Пишпека доносились вести, что Питер бурлил в эти дни войны. И по всей огромной империи разносились из таинственной Северной Пальмиры какие-то искры гнева, крамольные призывы, смутные, но обжигающие лозунги. Как все это постичь? И как найти передовых людей, зовущих к новой правде?
В вещевой корзине, рядом с аттестатом, лежало у него рекомендательное письмо от старого верненского ссыльного — провизора Иосифа Сенчиковского — писателю Николаю Федоровичу Анненскому, одному из редакторов популярного журнала «Русское богатство». Сенчиковский знал его по Нижнему Новгороду, где они вместе отбывали административную ссылку. Анненский в те годы усиленно занимался статистикой и считался хорошим знатоком крестьянской жизни.
— Он друг Короленко, очень близок Горькому, и тебе надо познакомиться с ним непременно, — напутствовал Михаила Сенчиковский.
Михаил нет-нет да вспоминал об этом письме, и тревога от предстоящей встречи с Питером приглушалась…
Шел август 1904 года. И почти все три недели неистово палило солнце. Правда, жара для уроженца Семиречья была привычной. Но там хоть можно было найти прохладу в саманном домике под камышовой крышей или в тени карагача возле арыка, куда сестренки Люда, Клава и Лида бегали по воду. А в долгом пути солнце просто убивало. И, по старому обычаю кочевых киргизов, казахов и узбеков, он спасался тем, что накидывал на голову и на плечи видавшую виды шинелишку. Все было мокрым: и китель, и брюки, и рубаха. Но поднимался ветерок, и дышать становилось легче.
Так продолжалось почти десять дней, пока добирался он от Пишпека до Арыси по почтовому тракту на тряской узбекской арбе. Раз уж выдался случай, хотелось бы завернуть в Ташкент, но туда поезда не ходили: пока еще насыпалось полотно, и тысячи грабарей на высоких двухколесных арбах бесконечной вереницей доставляли к железке песок из Голодной степи.
Не поубавилась жара и после Арыси, где Михаил занял место в ветхом, скрипучем, тряском и вонючем вагоне четвертого класса. Над головой были нары из верхних полок. И от этих нар, от стен вагона, от крыши, от поручней и от людей полыхало жаром.
До Аральского моря движение было налажено из рук вон плохо, и этот перегон тащились от понедельника до четверга, долго дожидаясь на каждом полустанке встречного поезда. Домашний харч, собранный в дорогу мамой, давно улетучился. Пришлось пробиваться кумысом, благо, его подвозили к поезду в больших бурдюках черные как черти, белозубые чабаны. И заедать его чуреком, выпеченным казашками в глиняных тандырах. А у моря навалился Михаил на копченую и вяленую рыбу. А потом два дня — до Оренбурга — просто умирал от жажды, поминутно бегая к бачку с теплой, тухловатой водой.
В Оренбурге была пересадка. Подали поезд шикарный: с вагонами первого и второго класса, с красной и голубой бархатной обивкой на мягких сиденьях. И публика была там такой, что вызывала не то раздражение, не то неосознанный еще протест. Ее картинность и показной блеск привлекали глаза, а сердце к ней не лежало. Больше того, вся эта мишура уводила на какой-то миг от главного и очень интересного, на чем хотелось бы сосредоточиться. Так бывает в минуту грустных раздумий, вдруг нарушенных каким-то оболтусом с его беспричинным смехом или пустым, пошлым анекдотом.