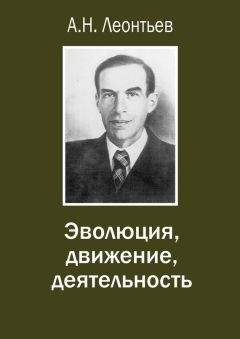Алексей Ильин - Время воздаяния
Сознание мое вернулось обратно в тело. Грудь немного болела, но других неприятных ощущений я не испытывал, если не считать легкого головокружения. Мой гость поправил складки одежды и сделал знак братьям отпустить меня — что они и сделали с великой осторожностью.
Слабость, которую я ощутил, мне даже трудно описать — казалось, все мое тело сделано из раскисшего от сырости картона, казалось, что даже внутренности мои не смогут удержаться в нем, но немедленно и позорно выпадут наружу.
— Кхм… — глядя на меня искоса, откашлялся мой загадочный гость. Снова уткнувшись в свой список он забормотал: — Так… сердце натуральное… номер… изъято такого — то… установлено обратно — такого — то… особых отметок — нет… прогноз — благоприятный…
— Распишитесь, — неожиданно обратился он ко мне, протягивая свиток и золотистую палочку.
В глазах у меня потемнело и я рухнул на пол.
III
Я вновь почему — то лежал посреди своей комнаты на ковре, а она сидела на диване и расчесывала жесткие черные неровно обрезанные волосы. Я уже и не пытался вспомнить, откуда она мне знакома и где я видел ее прежде. Я просто смотрел, как она расчесывает волосы, снимает их с гребня, смотрит на свет сизого осеннего вечера, пробивающегося в пыльное окно, сматывает в колечки и бросает на пол, совсем не заботясь об их дальнейшей судьбе. Одно такое колечко, неопрятное и колючее, упало совсем рядом со мною; я с трудом протянул руку, но все же дотянулся, взял его, повертел перед глазами, сунул в нагрудный карман. Она, казалось, ничего не заметила.
Я перевел глаза — к ее ногам, обутым в стоптанные домашние туфли, худым и покрытым ссадинами. Колени ее были раздвинуты — не бесстыдно, а просто небрежно — короткое черное платье ничего не скрывало, да это, похоже, ее и не заботило. И тьма, затаившаяся там, куда в конце концов притянуло мой, до того бессильный и бессмысленный взор — будто обещание, будто зов древнего божества — придала мне силы, и я пополз, чтобы погрузиться в эту тьму, забыться, исчезнуть в ней без остатка… Это было нелегко, поскольку я был еще отчего — то очень слаб; я уткнулся в ее колени головою, как ребенок утыкается в колени матери, когда обижен или болен. Однако она, отложив гребень, легко потрепала меня по затылку и заставила поднять голову. Некоторое время я смотрел на нее снизу вверх, ничего не понимая, но она глазами указала мне за спину. Там сидел — одетый не в странный, а в самый обычный темно — серый плащ — какой — то высокий человек.
Я почти не удивился, но все же удивился немного; несколько мгновений спустя я понял, что положение мое нелепо, даже неприлично, и удивление сменилось досадой — так, что я даже покраснел. Я попытался подняться, бесцеремонно опираясь на ее колени, — за это она наградила меня сердитым взглядом, но рук моих не сбросила, даже помогла выпрямиться, поддерживая за плечо. Поднявшись, я вдруг обнаружил, что штаны у меня расстегнуты и сползают ко все еще дрожащим от слабости коленям: это снова, в который уже раз, напомнило мне что — то неясное, однако раздумывать об этом было некогда — и я торопливо наклонился и подтянул штаны. Уже застегивая их, я вдруг снова начал думать, что такие вот туманные воспоминания уже превратились у меня как будто в систему, и накопилось их уже порядочно: я стал подозревать одни воспоминания в том, что они пытаются напоминать мне другие, я стал замечать, что все большее число предметов и положений походят на воспоминания о других — но, возможно, тех же самых — положениях и предметах, которые я забыл, хотя смутно сознавал, что многие из них помнил когда — то хорошо. Из этих складывающихся друг в друга, точно привозимые из далекой восточной страны дурацкие куклы, воспоминаний — одно другого туманнее — составлялись уже целые ряды, бесконечные коридоры отражений реальности, будто бесконечные цепочки отражений свечи, зажженной меж поставленных друг против друга зеркал… Но свеча — настоящая, реальная свеча — лишь одна! И эта аналогия в свою очередь навела меня на какой — то, давно, казалось, забытый мною ночной разговор при свете костра, разведенного на обочине брошенной и пустынной дороги, в какие — то древние и также давно позабытые времена; снова навеяла ощущение, что какое — то необходимое знание пытается и никак не может пробиться в мой разум сквозь пелену реальности… Я окончательно запутался в этих лабиринтах — так, что даже голова закружилась немного; я счел за лучшее присесть на край дивана, рядом с неожиданно появившейся в моей жизни, до умоисступления знакомой незнакомкой. Она немного подвинулась, давая мне место.
В комнате было полутемно; хотя глаз еще без напряжения различал все детали предметов со стороны, повернутой к незашторенному и потому глядевшему неуютно окну, противоположная сторона вся тонула в дымчатой тени; в нее были совсем погружены дальние от окна углы комнаты, шкаф с одеждой, книжные полки — высокие, уходящие к чуть белеющему потолку — и кресло рядом с ними, занятое незнакомым высоким господином в темно — сером плаще. На лицо господина свет падал в количестве еще достаточном, чтобы видеть ясно: приятное лицо, безбородое, взгляд серьезный, но приветливый, рот хорошо очерченный, выдающий благородное происхождение; нос — обычный нос, чуть с горбинкой. Волосы — очень коротко стриженые. Приятная, сильная натура.
— Вы, вероятно, еще ммм… слабы?.. Я, видите ли, просто еще не успел уйти, несколько задержался… Но, поверьте, в моем присутствии нет более необходимости — еще пара часов, вы окрепнете… поверьте.
В его руках что — то блеснуло, я пригляделся — то было золотистое, вернее, просто золотое вечное перо. Заметив мой взгляд, приятный господин не спеша убрал перо во внутренний карман. Эти его уговоры непременно ему поверить навели меня на первую связную мысль:
— Простите, — запинаясь от чего — то мешающего во рту, спросил я, — вы — доктор?
— Да, да, конечно: я — доктор, — немедленно отозвался он. И добавил: — В некотором роде.
Однако дальнейший наш разговор не представил более ничего особенного: «Нуте — с, мне пора…» — «Благодарю вас…» — «К здоровью вам следует относиться бережнее…» — «Конечно, я понимаю…» — «Непременно навещу вас через пару дней…»
Он попрощался со все еще сидевшей рядом со мной женщиной: как с моею женой… — она кокетливо подала ему руку. «А что я должна была ему сказать?» — словно говорил ее чуть смущенный, искоса брошенный на меня взгляд.
Когда за доктором захлопнулась дверь, я спросил:
— Что тут произошло?
— Ну, вчера ты прямо с утра так упился — я просто не знала, что и подумать… Фи, ты был совершенно несносен — нарядился в простыню, вылез на балкон и все пытался обратиться к прохожим с какой — то речью. Но вместо этого поминутно закатывал глаза, будто увидел в облаках марширующее войско, да и не смог выговорить ни слова. Я боялась тебя трогать, поскольку ты так свесился с балюстрады, что только чудом не сорвался. На твое счастье этот весьма милый господин не только проходил мимо в то время, но еще и оказался доктором — он любезно согласился мне помочь… — она чуть задумалась. — Я ему заплатила, конечно… Ты еще был… не в себе…
— Когда мы — таки вытащили тебя с балкона, — продолжала она, — ты сделался буен, кричал, что у тебя отняли сердце, а раз так, то пусть, дескать, разрежут его на кусочки, чтобы раздать всем нуждающимся… Бр — р-р, — ее передернуло. — Это было ужасно, ужасно — доктору даже пришлось сделать тебе какой — то укол… Ты что же — ничего не помнишь?
Я был вынужден признать, что — ничего: ничего из только что рассказанного мне я не помнил. Я помнил совсем другое, но оно теперь уже казалось таким диким в этой мирной домашней обстановке, настолько выходящим за рамки всякого сообразного ей здравого смысла, что я счел за лучшее промолчать. Да и не являются ли мои — по правде сказать весьма туманные и отрывочные воспоминания просто бредом? последствием пристрастия к алкоголю, или таившейся во мне душевной болезни, ждавшей только часа, когда беспутный образ жизни позволит ей выползти наружу? Нет — то есть, да: конечно же — бред. Бредовый сон смертельно пьяного человека… Кстати, я не подозревал, что могу — вот так, до такой степени… — зачем это мне понадобилось? Я откашлялся.
В комнате стало совсем темно; засветили лампу под абажуром. Знакомая лампа — я сам покупал ее несколько лет назад; да и вся обстановка комнаты была мне знакома, привычна, хотя и бедновата. Совершенно знакома, я жил на этой квартире уже давно, с тех самых пор, как переехал из провинции — вернее сказать, не сразу переехал, а уже после того, как несколько лет работал по найму в восточных колониях — был управляющим, потом комендантом — мне еще казалось тогда непонятно: было ли это повышение по службе или понижение, потому что обязанностей и хлопот прибавилось неизмеримо, а платили, в сущности, так же плохо; собственно, по этой причине я и решил вернуться обратно в метрополию и поселился здесь, в районе не слишком роскошном, окраинном, однако же в столице, не в глуши, и первое время казалось, что жизнь наладится.