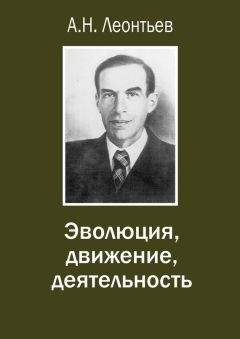Алексей Ильин - Время воздаяния
И теперь я видел знакомые шторы на окне — старые, пыльные и оттого казавшиеся неопределенно — бурыми; шкаф — что достался мне вместе с этой квартирою — тоже, конечно, знакомый; полки с книгами — я был страстный их любитель и собиратель, целый сундук привез с собою после своей службы, и каждая книга также была мне знакома очень хорошо. Запах, какой от проживающих людей бывает в каждой квартире свой собственный — здесь был собственный мой, хотя к нему всегда примешивался еще запах пыли и чуть отсыревшей штукатурки (был последний этаж, и в дождь подтекало). Тихий шум не слишком оживленной улочки, куда выходило окно. Словом, вся обстановка была мне совершенно привычна и знакома, и одного я никак не мог понять — кто эта женщина, сидящая рядом со мною.
То есть я понимал отчетливо, что знаю ее откуда — то очень хорошо, встречался с нею когда — то давно, возможно не раз, вероятнее всего, в колониях, хотя и не мог бы утверждать этого наверное; я мог даже допустить, что был с нею близок когда — то — но все это проступало в памяти моей настолько смутно, настолько далеко, как, бывало, неясный силуэт стершихся от древности своей безлюдных гор проступал на горизонте еще несколько дней после того, как давно уже оставлены позади каменистые тропы, ведущие через их ущелья, и стелется кругом молчаливая степь, и глухая дорога совсем теряется в неприметно набегающих волнах пустынных песков, и уставшие глаза обманываются порою, и нельзя уже сказать — точно ли еще видны далекие отроги или это просто дымные тучи надуваются с заката, обещая наутро пыльную бурю или сухой, не смачивающий земли, дождь.
Я не мог вспомнить ее имени и весьма сильно подозревал, что не знал его никогда. В то же время было ясно, что она если и не живет здесь со мною, то бывает очень часто: вот и домашние туфли на ногах, стоптанные, а значит, старые, давно здесь поселившиеся — не принесла же она их с собою нарочно, чтобы лишь вытащить меня с балкона и встретить доктора — конечно, если только эта рассказанная мне история была правдой. Да и вся обстановка незаметно выдавала присутствие — не слишком домовитой и аккуратной — но все — таки женщины; ваза на столе: я любил ее, но не помнил, чтобы сам покупал; кружевная, прожженная в одном месте салфеточка — съехала, правда, набок, но мне также в голову не пришло бы завести такую — только женщине… Словом, было ясно, что нас связывают какие — то отношения — в сущности, несомненно близкие — и, следовательно, продолжать вот так молча сидеть друг рядом с другом, становилось с каждой минутой все нелепее.
— Вас, или… эээ… прости — тебя… — начал я. — Словом, видишь ли, я не могу вспомнить твое имя… Я, вероятно, еще не вполне хорошо себя чувствую…
— Ты спрашиваешь, как меня зовут? — уточнила она, казалось бы, очевидную вещь. Я сокрушенно кивнул.
— Лили, — ответила она, подняв брови.
Она казалась удивленной и обиженной, однако, заглянув ей в глаза, я вдруг понял, что она не удивлена нисколько и ничего другого не ожидала. В тот же момент она отвела взгляд — будто бы в поисках своего гребня.
Я спросил еще о чем — то — она ответила, сперва поджав еще губы, но затем увлеклась и стала рассказывать о своей какой — то то ли подруге, то ли родственнице уже совершенно обычно, чуть устало. Я не понимал, о ком она говорит, да и не особенно пытался — прислушиваясь к себе, я чувствовал, что мне и впрямь нехорошо: в груди было как — то пусто и зябко, как бывает в нежилой комнате — от этого меня донимала легкая, но неотвязная тошнота и головокружение. Да и печень к тому же побаливала… В целом это и точно похоже на картину похмелья, хотя если верить рассказу моей… Лили? — все должно быть гораздо тяжелее. Это странно. Впрочем, какой — то укол… Может быть, это он так помог?..
Лили, заметив, что я не слушаю, умолкла; я спросил ее еще о чем — то — что за доктор: «Ты его знаешь?» — «Нет, конечно: я же рассказывала» — «Но имя его ты знаешь?» — «Как ты это стал интересоваться именами… — вот на столе его визитка». Я взял визитку: «Др. Шнопс» — золотыми буквами — и больше ничего. Я повертел картонку — ничего. «Шнопс», — повторил я, — «Да, кажется», — безразлично отозвалась Лили.
Так, разговаривая о всяких пустяках, мы просидели еще час или два. Была совсем уже ночь. Неожиданно я почувствовал, что проголодался; спросил Лили — глаза у нее радостно блеснули, она закивала и даже будто улыбнулась. Я вспомнил, что за все эти несколько часов, что мы провели вместе, она не улыбалась ни разу. Она поднялась было, но выглядела как — то растерянно: огляделась, хотела что — то сказать, но не сказала, снова улыбнулась — уже явно — улыбка получилась немного виноватой. Тогда я тоже поднялся, вышел в буфетную (мы сидели в комнате, считавшейся гостиной), принес хлеб, сыр, лимон, полбутылки вина — «Тебе нельзя», — прошептала она неуверенно, — «Я и не стану, — ответил я, — это для тебя». Она стащила со стола салфетку, привлекшую недавно мое внимание, постелила ее прямо на диван.
Роняя крошки на пол, мы ломали хлеб, резали сыр захваченным из буфетной ножом; я, спохватившись, еще раз поднялся, принес бокал, налил вина — Лили выпила, затем спросила: «А ты?» — я устало махнул рукой, принес себе простой воды. Так прошел еще час.
Под утро стало ясно, что нужно бы уже и лечь: мы поднялись, свернули салфетку, оставили на столе. Поднялись, перешли в спальню; кровать там, разумеется, была одна; в общем — то из всего следовало, что спим мы вместе. Не зажигая огня, стали раздеваться, разделись, легли рядом. Меня снова кольнула мысль, что ей это явно непривычно — мое тело не было ей знакомо, она неуверенно гладила меня, вдруг задумывалась, пальцем трогала шею, брови — чуть не попав при этом в глаз: ойкнула, виновато поцеловала меня в щеку. Кажется, не более чем через десять минут мы уже спали.
* * *…Она снова сидела там, на той самой балюстраде, где я увидел ее впервые; я стоял прямо перед ней склонившись, затем медленно опустился на колени. Чувствуя в груди пустоту и холод, закрыл глаза, уткнулся головой в ее лоно и заплакал. Я плакал, обняв ее руками за бедра, а она гладила меня по неряшливо выбритой голове, по спине, где выступающие, обтянутые кожей лопатки, казалось, торчат обрубками бывших у меня когда — то крыльев. Давно был разрушен великий храм божественного огня, что питал меня и давал мне силу и надежду; и самый огонь осквернен был и давно потушен, и был наложен запрет новыми правителями мира на поклонение ему. И тело мое наливалось каменной тяжестью, каменными становились руки, плечи; иссеченное песчаными бурями и временем неузнаваемое лицо мое, будто отколовшаяся каменная глыба давила на нежную и теплую животворящую человеческую плоть, и плоть эта, казалось, не замечала тяжести — привычная к ней, и сотворенная для ее вынашивания — и слезы мои орошали ее, словно родник, пробивающийся из трещины в скале, орошает живую плодородную землю.
И она — будто сама земля — говорила со мною, гладя руками — будто живыми ветвями рожденных и питаемых ею дерев — легонько касаясь каменных глыб, из которых было сложено мое тело, что принимали за меня самого многие века, и будут принимать, вероятно, до скончания времен. И она говорила, что совсем рядом уже явился тот, кому должно было прийти: родился из живого лона прекрасной дочери той земли, воплотился в маленькое — орущее и чмокающее крохотным человеческим ротиком при виде материнских сосцов — существо; что будет теперь расти он, учиться ходить, играть со сверстниками в их детские игры, снова учиться, и узнавать все, что его окружает, и получать за это синяки и царапины; отроком по зову своего предназначения отправится он в странствие, чтобы снова познавать мир — уже не детский, а — большой, человеческий, познавать древнюю, скрыто спящую в самой глубине земли мудрость, по крупице накопленную теми, кто был до него — много тысяч лет до него. И он, именно он соберет эти крупицы — все до единой — и выложит ими, словно цветными камушками, и ракушками, и кусочками водорослей, и птицами, и следами их на морском берегу — символ его веры, единое слово — с грамматической точки зрения — глагол: «любить».
И наваждение мое стало рассеиваться — и рассеялось; морок полуденный спал, сполз с моей измученной страданиями души, и снова: я сам, живой, в нежной и наполненной кипением бытия плоти — а не просто мой, сложенный из каменных глыб исполинский кокон, до сих пор овеваемый ветрами где — то далеко на востоке — сам я выпрямился и сел рядом с моей, похожей на большую черную птицу, вещуньей, сел рядом с ней на каменную балюстраду дома давно пропавших в глубине времени людей — как и его хозяева, медленно поглощаемого жадными губами земли — и продолжал слушать не очень связные, но очень для меня утешительные речи, задавая порою вопросы и не получая ответов, но все равно с волнением и трепетом узнавая, что уже открыта тайная доселе мудрость древних обитателей земли, собранная наконец по крупице воедино, как богатая житница щедрой рукою благодетельного правителя открывается для его подданных в голодные годы; что придумана уже здесь, в этом мире и вера в эту мудрость и силу ее, вера в жизнь вечную, равную величию мироздания — а не жалкую, быстротечную жизнь червя, в вечной тьме грызущего корни живых дерев, произращенных землею для света и ветра — недоступных для червя и губительных.