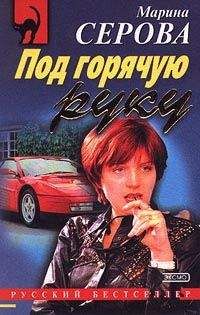Юрий Манухин - Сезоны
— Двинуть ничем не могу… Вот так, Феликс… Ничем… Это судорога… Да? С непривычки, наверное. Да?
Не знаю, поверил ли Феликс Соколков моей версии, но он быстро выбрался на склон и захотел приблизиться ко мне.
— Не надо, Феликс! Не надо! Тут паршиво! — взмолился я.
Он и сам это почувствовал и присел на корточки. А времени раздумывать не было; еще чуть-чуть — и придет ночь, такие плотные гиблые сумерки.
Феликс нагнулся, взял лопату и попробовал дотянуться до меня. Но руки с лопатой не хватало.
— Вы не можете, Павел Родионович, руку протянуть? Попробуйте, пожалуйста.
Тошнота постепенно проходила. Я попробовал изменить положение тела, но снова замер и беспомощно посмотрел на него. Боже мой, что за скотское состояние! Что за дерьмо человек!
— Ладно, — сказал Феликс. — Мы сейчас чего-нибудь сообразим.
Он достал из кармана складной нож, обнажил лезвие, отрезал карабинчик на вязке рюкзака, вытянул шнур, отрезал одну лямку, срастил со шнуром, привязал шнур к лопате выше штыка, закрепился понадежнее, вытянул руку с лопатой как мог дальше и бросил мне конец.
Лямка упала рядом с моей рукой.
— Хватайтесь покрепче и держитесь. Не торопитесь… Потихоньку. Потихоньку… Вот так, — приговаривал Феликс.
И я не упустил своего шанса.
Палки, обглоданные морем до белого блеска, что торчали из расщелин в восьми — десяти метрах над осушкой, оказались там, видно, не без помощи штормов. В эту же ночь даже свежий ветерок не подул. Прилив достиг высшей отметки около часа ночи, а в нашем распоряжении оставалась площадка три на два. Площадка была ровная, наклонная, но сползти с нее в море можно было бы разве что случайно. Если бы море хоть чуть-чуть разгулялось, такого комфортабельного местечка нам не найти.
Итак, около часа ночи я засек на ощупь по самодельной водомерной рейке, то есть по палке, заколоченной у нижнего края площадки, окончание прилива.
— Все, Феликс, сдох прилив. Радуйся, — с облегчением сказал я после того, как в третий раз с промежутками в десять минут отмерил пальцами все те же два вершка от конца палки до уровня моря.
Странное сегодня было море. Такое спокойное, такое гладкое, такое сытое.
— Феликс, Феликс! Отключился ты, что ли?
— Так… есть немного, — вяло сказал студент.
— Ну, спи, продолжай. Я тебе только хотел сказать, что если нас не смоет к утру, я соглашусь с тобой насчет нежности Охотского. Помнишь, ты вчера говорил? А скорее всего, оно сегодня не хочет пробовать нас. Мы ему поперек глотки… Д-д-д-д-д… — челюсти мои заплясали, зубы застучали.
А всему виной были мокрые штаны и портянки, отжатые, но сырые.
Пока мы наблюдали за приливом и готовились в любую минуту отчалить повыше, мне вроде бы было и не так зябко. А вот сейчас, когда ясно, что кантоваться нам здесь до утра, не двигаясь с места, сырая одежда безжалостно напоминала о себе.
Еще с вечера успели мы поднять на площадку такие вот дрова: толстую корягу, три метровых бревнышка с обкусанными, как детские карандаши, концами и с десяток двухдюймовых палок. Но что это были за дрова? Пропитанные морской водой, насыщенные солью, они только сверху обветрились и казались сушняком. Но по весу можно было понять, что это не те дрова, которые могут гореть в костре. И действительно, костра не получалось. Шел едкий дым. Жалко тлела подсушенная на груди стружка. Иногда синие язычки затравленно бродили между веточек: побродят, побродят и исчезнут.
Хотелось есть. Хотелось пить.
Я занимался упражнениями почти час: приседал, размахивал руками, прыгал на месте, но никак не мог согреться. А времени было всего половина третьего.
4— Хорошенькое начало! Славненькое! — сквозь отчаянную зевоту выдавил я, проснувшись в половине пятого под вечер.
После приключений на берегу в палатке мы очутились только к двенадцати дня. И как вползли в палатку, оставив сапоги с портянками на улице, так и уснули поверх спальных мешков.
День был жаркий. В палатке духота. Спали, обливаясь, потом, жрали нас комары, но никакая духота, никакая жара и все комары мира не способны были потревожить наш мертвецкий сон, вызванный ночными и утренними мытарствами.
Ведь утром нам тоже досталось. Хотели как лучше, как быстрее. Чуть светать начало, вернулись назад километра на полтора, рискуя, все-таки вскарабкались на уступ по желобковой осыпи. Тут бы и кричать «Ура!», да увязли в высокорослом кедраче и до ближайшего распадка добирались с муками часа три. Ручеек, который вытекал из-под снежника, оказался тем допингом, который помог нам сделать половину оставшегося пути до палатки. А там уже и вода реки Тальновеем, берегом которой мы шли, охлаждала наши лица и не давала вздремнуть на ходу.
А спать хотелось. Пожалуй, я первый раз в поле, среди бела дня испытывал такую непреодолимую сонливость. Кажется, я все-таки видел в пути пару снов, по крайней мере раз прилег на косогоре. И вот пробуждение в родной палатке.
— Павел Родионович, мы не будем больше возвращаться туда, где были? — Феликс зевал, отчаянно растирая кулаками глаза и размазывая по лицу слезы.
— Упаси бог.
— Может быть, на лодке к тому месту подойти?
— Зачем?
— Так, интересно.
Идея мне понравилась: контакта интрузии с осадочными, который должен был бы встретиться, я ведь так и не видел.
Можно попробовать засветло. Тогда давай в темпе собираться. Чаевать не будем.
— Боже мой! Что наделали деникинские банды? — закричал Феликс, когда наша лодка, прошмыгнув по глубокой приустьевой части реки Тальновеем, осохла в самом ее устье.
— Ой, ой, ой! Что же они натворили?! — подыграл я, но изумился не меньше.
Да-а-а! Такого я в жизни не видел! Бухты, куда должна была вбежать река, не существовало. Ласкали глаз подковообразные гостеприимные контуры бухты. Отлично выделялись сторожевые южный и северный мысы. То есть бухта как характерная и спасительная часть морского побережья не исчезла, но воды в ней не было. Не было! Море темнело далеко-далеко впереди, на уровне входных мысов. В самой же подкове, куда ни посмотри, только влажный серый ил. Лишь редкие камушки торчали на его лоснящейся поверхности, нарушая монотонность.
А что же Тальновеем? Куда девалась река? Исчезла — разбежалась тысячами мелких ручьев по пологому илистому дну — и как будто ее и не было.
— Кто бы раньше мне рассказал, что бухты здесь осыхают, послал бы… — все еще во власти непривычного зрелища проговорил я.
Я вылез из лодки и прошелся метров тридцать — сорок по дну бухты в сторону моря. Оказалось, что ил нетопкий — сапоги вязли в нем лишь по щиколотку. У нас в поселке, когда мерзлота оттаивала, бывают места, где по колено грязь, а здесь под илом была галька. Вернулся я к лодке и решил:
— Ночевать здесь не будем. Лодку подготовим и оставим на иле. Дождемся ночного прилива. Прилив снимет ее, и мы попытаемся обойти южный мыс и уж там где-нибудь пристанем.
Я уже даже про себя не думал о поисках контакта на севере. Ночью? В море?! На резинке?! А почему бы и нет? Авантюра? Без сомнения. Но успех у нас в кармане. Только бы не задуло. А впрочем, почему же авантюра? Высокий уровень держался всего-то пару часов, как я в этом убедился прошедшей ночью. А утром, кто его знает, будет в бухте вода или нет. Что же нам тогда — сидеть здесь и куковать?
— Что скажешь, студент? Прорвемся? Прорвемся. И разговор короткий.
Стоял прекрасный по нашим местам вечер. Долина Тальновеема уже затенилась. А в верховьях ее на западе, над перевалом с кромкой, острой, как садовый нож, не на жизнь — на смерть бились Свет и Тьма. Почему, когда наступает темнота, небо обретает цвет военных пожарищ? Почему утренняя заря не бывает зловещей?
Однако эти вопросы пришлось оставить на потом: пришло время собирать дрова, разжигать костер и готовить макароны с тушенкой. А пока мы усердно занимались всем этим, закат. погас, и дилемма о Свете и Тьме потеряла свою актуальность.
Как тихо, как незаметно подкрался прилив! Мы ощутили его лишь в тот момент, когда подготовленная к ночному путешествию лодка оторвалась от илистого грунта и мягко закачалась на плаву. Феликс взялся за весла, а я, отвалившись на корму, начал править тяжелой длинной жердью, найденной среди плавника. Время от времени включал фонарик и сверял по компасу азимут. Он был выбран с таким расчетом, чтобы вывести лодку по прямой к южному мысу.
Феликс Соколков греб безобразно. И хоть бы перегребал какой-нибудь одной рукой, «косил», что называется. Так нет же! Он рвал веслами как бог на душу положит. И если бы не жердина-руль да не покрикивания мои: «Ровнее! Греби! Ровнее… Не рви, я тебе говорю!.. На себя, а не под себя! И-и-и-и раз!» — вертеться бы нам на одном месте. Как пить дать!