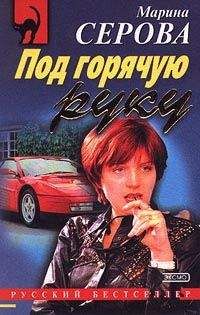Юрий Манухин - Сезоны
В комплекте с лодкой имелось три сборных дюралевых весла, надувные жилеты и парус. Парус я без колебаний оставил на базе, дабы соблазн пройти по морю под парусом с ветерком не лишил рассудка. А жилеты забрал все. Мало ли, пригодятся. Их и подстелить под спальник можно, ежели сыро, и вместо подушки. Восхищало меня, что в специальных карманах жилетов находились брикеты краски типа флуоресцина. Вот мы не справились с ветром и течениями, и нашу лодчонку понесло в открытое море. Что мы? Что лодка наша? Пылинка на корявой физиономии Охотского моря. Вот нас ищут. Слышим мы стрекотание вертолета. Орем, руками машем — все без толку. И тогда достаю я брикет, мигом сдираю полиэтиленовую упаковку и бросаю его в воду. Да, теперь мы уже не пылинка, мы будто прижгли бриллиантовой зеленью морщинистую щечку Охотского моря. Нас уже видно издалека невооруженным глазом. А изумрудное пятно расползается все шире. И в нем наше спасение.
Неплохо, да? Полезная штука краска? Не любил я ЛАС-5 лишь за тонкую резину. Шваркнешься где-нибудь о камень или сук какой — суши весла. И хорошо, если дырка будет как дырка, которую заклеить можно. И чтобы не искушать судьбу, мы тут же подвели под дно лодки брезент, прихваченный мной лишь для этой и никакой другой цели.
Пока закипал чай, я «привязался» по карте, поставил точку № 1001 и решил, что следующей точкой будет обнажение, которое виднелось среди зарослей кедрача в верхней части левого склона долины на отметке порядка трехсот метров. А пока я начал новенькую пикетажку, то есть полевой дневник, записями геоморфологических наблюдений: «Долина р. Тальновеем трапециевидная. Ширина по дну 0,5 км. Имеется пойма шириной 100 м и двусторонняя надпойменная терраса…»
Писалось трудно, как и в начале всякого сезона. Потом, я знал, распишусь, придут стереотипные обороты, жесткая последовательность. А пока я буквально марал первую страницу, страдая от собственной немощи. И вырвать-то ее было нельзя — листы в дневнике были пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.
Феликс сидел рядом, нервно перечитывал толстенное письмо, которое буквально перед посадкой в вертолет вручил ему Робертино. Краем глаза я видел, как ему хочется сообщить мне нечто важное: он время от времени отставлял письмо, выжидательно смотрел на меня, уже открывал было рот, но так и не рискнул оторвать меня от работы. Он уже и чай заварил, когда я наконец кончил писать.
— Плесни-ка, Феликс, в кружечку за успех нашего предприятия, — сказал я, пряча планшет и пикетажку в полевую сумку, и пододвинулся поближе к прогоревшему костру.
Феликс налил мне чаю, подвинул мешочек с рафинадом, пару сухарей, банку с печеночным паштетом и сказал с горечью, глядя на серый дымок, парящий над серой золой:
— Папа Хэм застрелился.
— Чей? Чей папа? — не сообразил я.
— Папа Хэм. Хемингуэй.
— Не может быть, — уверенно сказал я, не переставая жевать.
— Правда. Мать мне написала. В газетах напечатано. И по радио говорили.
— Н-да… Он же на Кубе жил? — спросил я, хотя и знал, что жил он на Кубе.
— На Кубе.
— А из-за чего? Не пишет?
— Нет. Вот только это: «Сегодня услышала по Центральному радио, что американского писателя Хемингуэя не стало. Я пошла к Афанасию Яковлевичу («Это журналист, мамин знакомый», — пояснил Феликс). И он сказал мне, что Хемингуэй застрелился». Вот все, что написано.
— Да, жаль старика.
— Какого старика?! Ему чуть за шестьдесят перевалило. Не знаю точно: или шестьдесят два, или шестьдесят три.
— Это он сказал, что мужчина не должен умереть в постели? «Или смерть в бою, или пулю в лоб», — так, кажется.
— Похоже на него. А вообще не помню.
— Может быть, болел он?
— Вроде бы нет. Я статью недавно в «Огоньке» читал о встрече с ним. Не помню, кого статья. Про болезнь там ни слова.
— Ты говоришь: ему чуть за шестьдесят было? А выглядел он на все восемьдесят.
— Наверное, такая жизнь была. Не жалел себя мужик.
— Жалеть себя станешь, о чем писать?
— Да, о чем писать. Это вы правильно сказали. Но ему еще везло: столько ранений! А авиационные катастрофы? С нас бы и по одной хватило. Силен мужик! — Феликс сказал это с таким восторгом, словно собирался посвятить прославлению имени писателя всю свою жизнь.
И мне захотелось сбить его пыл. Я не совсем точно сказал «сбить пыл». Я уже думал о жизни и смерти таких людей, как Хемингуэй: они с Маяковским одного порядка, одной величины люди, правда, Маяковский мне роднее. И я шкурой собственной чувствовал, что гигантизм этих людей опирается на слишком хрупкое сооружение — страдающую душу. В этом их дисгармония, и ее они как художники должны были страшиться.
— Как ты думаешь, Феликс, — начал я, растягивая слова, чтобы точнее сформулировать вопрос, — жил ли страх в нем?
— Страх? Какой страх? Что вы говорите, Павел Родионович? Какой страх?
— А что? Неясно спрашиваю? Страх… Обыкновенный. Неужели не знаешь, что это такое? Никогда не чувствовал?
— Да при чем здесь страх? При чем здесь Хемингуэй?!
— Несовместимо, да? Вот что мне знающие люди говорили, Феликс… Они говорили, да я и сам это знаю, что люди старятся до времени от страха. От примитивного страха… Или когда совесть мучает.
— И от болезней тоже. И от курения. И от наркотиков! И от водки! Сколько причин! И не все ли равно, отчего они старятся. Жил великий писатель, творил гениально, плевал на бытовуху, все познал, все постиг. Коллизии всякие там житейские — семечки. Люди и все их штучки-дрючки как под микроскопом. Деньги! Слава на весь мир!.. А он — трах-бах! Вот в чем дело! Что человеку надо было?.. И ведь немолодой, да? Не пацан ведь?
— Не пацан, — сказал я и умолк: не хотелось поддерживать разговор, что толку трепать имена людей, которые останутся в памяти не одного поколения. Их пример нам, смертным, не для подражания. Нам их не понять. Во всяком случае, упрекать их у нас тоже нет права: дай бог каждому сделать за полную отпущенную природой жизнь сотую часть того, что они осуществили на отмеренном ими самими отрезке.
Феликс тоже замолчал. То ли настроение мое почувствовал, то ли сам пришел к тому же. Он плеснул себе в кружку уже подостывшего чая, не сластя, залпом выпил его и сосредоточенно начал укладывать во вьючный ящик и в суму съестное. Лицо у него было грустное и обиженное, глаза стали близорукими, затягивал ремешки он на вьючной суме долго.
3Последние полтора километра до морского берега помотали же нервы! Ручей, которого мы держались, неглубоко, но узко распилил морскую террасу. Долина-щель густо заросла ольховым стлаником. Все было закрыто четвертинкой, но я подумал, что, может быть, где-нибудь в самом русле обнажатся коренные породы, и шел по воде.
Я торопился. Маршрут получился неоправданно затяжным. И удивляться нечему. Это был второй в сезоне маршрутный день: я только-только начал вживаться в рабочий ритм. К тому же Феликс Соколков оказался дотошным студентом, а это, как известно, тоже не экономит маршрутного времени. На точках мы задерживались раза в полтора дольше положенного. Ведь как мы с Робертино распланировали: петля — день. А на самом деле? Уже почти нет сомнений в неизбежности сегодняшней ночевки там, где бок приткнешь.
Уже шестой час, а мы все еще продираемся сквозь поганый ольхач.
«Только бы поскорее выскочить на берег! Там можно развить темп: интрузии до северного мыса при входе в бухточку, куда впадал Тальновеем, не предвидится. Поставлю на этом отрезке пару точек — и делу конец, — думал я. — А вот дальше должен быть контакт туфов с интрузией, обнажающийся в береговом уступе. Это уже поинтереснее. Если, конечно, он действительно есть. Должен ведь быть. На снимках он вроде бы отчетливо проявлялся».
Мне так захотелось засветло добраться до того места! Всего-то четыре километра по берегу! Там бы и заночевать, хотя, повторяю: на ночевку всю первую половину дня я никак не рассчитывал, и потому у нас даже поесть ничего не осталось, не говоря о том, что теплых вещей мы, естественно, с собой не захватили.
Да, забываются за долгую камеральную зиму основные заповеди поля, теряется спасительная предусмотрительность, исчезает хранительница-предосторожность. Лишь за первую маршрутную неделю ты приходишь в форму и уже не оставишь, как было в первый день, свой молоток на обнажении, и компас-отец всегда с тобой, и в рюкзаке всегда лишний сухарь, лишняя пачка чая, лишняя банка тушенки. Да и легче, не сравнить: одышки нет, и зимние шлаки только так выносятся из твоего тела вместе с потом. Ты становишься поджарым и сосредоточенным. Ты вошел в форму, ты работаешь в поле. Ты в маршруте. Ты хозяин поля, и нет таких ситуаций, которые могли бы застать тебя врасплох. Все это скоро вернется. Все будет так, как я только что сказал. А пока положение мое несколько иное.