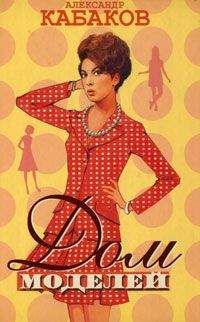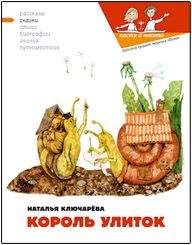Наталья Ключарева - Деревня дураков (сборник)
– Экий он у тебя, – покривился Ефим. – Отравный.
– Не сердитесь. У него мать пропала. Третий день уже.
– Эх, Любка, – загрустил дед и стал заворачивать икону обратно в полотенце. – Пойду я. Не до меня вам теперь.
– Жучек-то своих оставьте, – улыбнулся отец Константин. – Или передумали?
Довольный, Ефим возвратился домой. Медленно шагая по тропинке среди сирени, он понял, что страшно соскучился по своей Серафиме, хотел пойти быстрее, но не смог: ноги за него решали, как и куда им ходить. Еле-еле он добрел до высокого стула. Отдышался и сел ждать, пока любимая придет к нему сама.
Однако вместо Фимы на лужайку к лилиям прискакал взбудораженный постоялец.
– Это где ж моя старуха? – потерянно спросил Ефим.
– Варенье варит, – скороговоркой отрапортовал Митя и без передышки выпалил: – Давайте поговорим!
– Батюшки святы! А мы что делаем?
Митя угнездился на перевернутом ведре, достал блокнот и даже надел очки, чем сильно напугал деда.
– Сбегай за Фимой, без нее не буду, – опасливо предупредил тот.
Митя смутился, и его оцепенение разлилось на всё вокруг, даже цветы, казалось, насторожились и судорожно сжали свои лепестки. Солнце скрылось за рваное облако и выглядывало оттуда, как пятиклассник, играющий в прятки.
Митя несколько раз терял решимость, бросал блокнот в траву, клял себя за неумение общаться, с горечью понимал, что из его затеи ничего не выйдет. Ефим, нахохлившись, требовал к себе жену, Серафима не шла, колдуя над большим тазом, в котором рубиново пенилась вишня.
Потом и вовсе пришлось пить чай, соскребать с блюдца еще горячие пенки, отгоняя настырных ос, и Митя поставил крест на том, что вчера померещилось ему делом жизни. Он облизнул ложку и с привычным отчаянием задумался о своем месте в мире.
– Ну, допрашивай, чего скуксился? – подмигнул Ефим, оттаявший в присутствии Серафимы.
Митя от неожиданности забыл все заготовленные вопросы и ляпнул, как вышколенный октябренок на встрече с ветеранами:
– Расскажите, как вы воевали?
– О чем тут рассказывать? – пожал плечами дед. – По-крестьянски я воевал. В пехоте. Землю, в основном, рыл.
Ефим замолчал. Митя лихорадочно соображал, что еще спросить. Серафима позвякивала ложечкой в граненом стакане.
– Вот такой звук, только чище и прозрачнее, – кивнул на нее дед, – я в последний день войны слышал.
– Девятого мая? – растерянно уточнил Митя.
– Двадцатого февраля. Сорок второго года. Моя война тогда кончилась.
– Дело было, значит, под Москвой, – начал Ефим, отодвигая свою ведерную чашку. – Осенью мы немца маленько потеснили, а к зиме застопорились. Ни туда, ни сюда. Стоим, как вкопанные.
И вот за каким-то лешим послало меня начальство в соседнее село. Идти – с гулькин нос, километров десять, напрямик через лес. И надо ж было – заплутал. Это все от злости. Досадовал из-за безделицы ноги топтать. Уж не помню, чего им там понадобилось. Баловство, вроде квашеной капусты.
В общем, заблудился. Задергался. Попер через бурелом. Думал спрямить – еще хуже сбился. Маскхалат изодрал. Взбесился, как медведь-шатун. И на тебе! Напоролся лоб в лоб на немца. Фронт ведь загогулиной шел: где мы, где они, вперемешку. Вот я, видать, и вклинился в чужой участок.
Ломанулся я от него, кувырком в овраг. Да куда там! Фриц на лыжах, а нас еще не снабдили. На соседней поляне он меня и настиг. «Хенде хох» – орет. Будто сам не знаю. Отбросил винтовку, задрал руки. Стою, жду. Полакомились капусткой!
И чувствую вдруг – солнце ладони припекает. Весеннее уже. Рукавицы-то потерял, когда драпал. И тут я первый раз за четверть века вокруг себя посмотрел. В эту вот последнюю секунду, пока немец автомат свой наводил. Нашел время! А то всё некогда было.
Знаешь ли ты, Митька, какой мир красивый? А я тогда – впервые разглядел. Где всю жизнь глаза были? Тоже, видать, в кармане таскал, экономил.
Накануне оттаяло всё, а ночью опять прихватило. Мокрые ветки – оледенели. И звякают на ветру. Тонкий такой звук, умильный. До кости пробирает.
Немец заметил, что я прислушиваюсь, и тоже уши навострил: не идет ли подмога? А мне смешно! Я ему подбородком на дерево-то и показываю. Набычился весь. Но не утерпел – совсем мальчишка! – и задрал голову.
Тут лицо у него дрогнуло. Самую малость. И я понял, что он тоже видит. А еще понял, что сегодня – последний день войны. Минуту мы смотрели друг на друга, как люди. Я даже решил, что он не выстрелит.
Но он выстрелил. Я упал на спину. И засмеялся. Такой нелепой показалась мне вся моя жизнь. На что потратил? Боролся, рвался, хорохорился, как петух. А солнца – не видел! Сугробов самоцветных, сосулек золотых. Тишины не слышал.
Только в детстве. Туда я и провалился. Будто я еще грудной. Мать на коленках качает, агукает, дует в лицо…
И вдруг вместо нее – тычется псиная морда. Лижет щеку, как наждаком дерет. Очухался я. Смотрю, поляна. Солнце уже ушло. Значит, долго валяюсь. Снег подо мною весь в крови. Кругом – лыжные следы. Натоптал немец. Видно, раздумывал: добить или так оставить.
Он ведь, когда целился, меня пожалел. Плечо прострелил. Это с трех шагов-то! Мальчишка еще. Не успел броней покрыться.
Встал я кое-как. И за собакой поплелся. Вывела – прямехонько в то село, куда меня за капустой снаряжали. Там я и пробредил до весны. На печке у одной старухи. А когда в лазарет попал – уже поздно было, гангрена пошла. Оттяпали мне руку да в тыл списали. Так что это, и правда, был для меня последний день войны.
Вернулся я домой, женился на Серафиме. И стал под солнцем ходить. А всякой людской маетой я с тех пор не занимаюсь. Некогда. Жизнь живу. Серьезное, знаешь, дело. Не выборы в райсовет.
– Выходит, – медленно проговорил Митя, – дело жизни – сама жизнь?
– Ну да!
– Я так не умею. Может, потому что под пулями не стоял. Но мне все кажется, что просто жить – стыдно. Нужно еще чем-то свое существование оправдать. Ведь я же не цветок на грядке!
– А цветок-то больше тебя о жизни знает. Знает, что ей никакие оправдания не нужны. Она просто есть.
– Ну, что вы говорите! У растений нет сознания. Это исключительно человеческая ноша. Поэтому нам вегетативной радости бытия недостаточно. Нужно что-то еще. Не только жизнь, но и дело жизни!
– Тс-с! – спохватился вдруг Ефим и кивнул на задремавшую Серафиму.
Та сидела, свесив голову на грудь, и легонько посапывала.
Митю опять захлестнула горькая, разъедающая нежность. Стало мучительно жалко. И Фиму. И старушек из детства, давно умерших, но для него по-прежнему живых. И стареющих родителей. И всех людей, идущих к неминуемой смерти. И Настю, которую он ни за что ни про что обидел. И президента Лёню с его указами и любовными письмами. И Стаса, волнующегося о стиле…
Митя осторожно встал из-за стола. И пошел через сад, не видя дороги.
Краем сознания он знал, что ответ где-то здесь. В его захлебнувшемся сердце.
Глава двенадцатая
Под дождем
Между тем Серафиме снилась Любка. Та сидела на лугу в голубом платье и, улыбаясь, махала ей рукой. У Любки было чистое лицо, будто она умылась в какой-то особой воде, смывающей не только грязь, но и неизгладимую гнильцу дурной жизни.
Перед ней стояла большая корзина спелых яблок. Любка выбрала одно, обтерла о платье и протянула Серафиме. Яблоко было сладким и сочным.
– Где ж ты их набрала? – изумилась Фима. – У нас таких не бывает.
– А вон, – Любка кивнула на чахлый прутик, торчавший рядом. – Мое деревце.
Одно за другим она выложила на траву еще три яблока:
– Деду Фиму. Косте большому. Косте маленькому. Передай им.
– Девонька, – затосковала Серафима, уже обо всем догадавшись, – что же ты сама их не угостишь?
Любка, по-прежнему улыбаясь, покачала головой, подхватила свою корзинку и побежала прочь по полю. Не оглядываясь.
Серафима встрепенулась и увидела перед собой блюдце с остывшим чаем. Ефим улыбался ей через стол, как ребенку.
– Любка-то наша, – с усилием выговорила Фима, и дед потемнел. – Кажется, отмучилась.
На исходе третьего дня погода испортилась. Нудный дождь застучал по крыше сарая. Небо заволокло. Ветер донес со свалки жалкий нескончаемый вой. Это мучилась от снедавшей ее болезни старая собака Паршивка, такая несимпатичная, что ее не любил даже Минкин.
Они молчали, не включая свет. Костя иногда выскакивал под дождь, обегал вокруг церкви, и отец Константин слышал гулкие удары по ржавой бочке, поставленной под водосток.
Потом он возвращался, прятался в дальнем углу и затихал. Порой казалось, что мальчик тоже исчез. Растворился в сирых сумерках мира, как Любка. Отец Константин вслушивался в темноту, но не мог уловить ничего, даже дыхания.
– А что же ты от дворца с сауной отказался? – вдруг хрипло хохотнул Костя. – Я бы взял.
Отец Константин пожал плечами. Их опять обступил ровный шум дождя.
– Хотя от такого кастрата, конечно, брать западло, – через минуту продолжил Костя с жутким отрешенным оживлением.