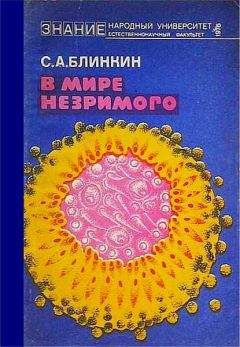Ахат Мушинский - Шейх и звездочет
К экзотичности его комнаты мы были привычны. Мы выросли в ней. Что нас поражало — и с каждым годом все больше и больше, так это память Николая Сергеевича. Она у него была феноменальной, просто кибернетической. Он никогда ничего не искал по бесчисленным книжным полкам, никогда и ничего не забывал (не беру в счет бытовую рассеянность). Память его включалась без нагрева и разгона. Полузакрыв глаза, он читал нараспев: «Роняет лес багряный свой убор…» Или: «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» Поводом для пространных цитат обычно служили ошибки, неточности, как наши при зубрежке, так и составителей различных сборников и учебников. Помню, как-то я процитировал из учебника литературы слова Пушкина в письме к Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»: «Трагедия моя окончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да молодец!» Это веселое восклицание понравилось мне. Из всех населявших учебник поэтов, он тут живым человеком представился. Выслушав меня, Николай Сергеевич сказал, что и ему эти строки по душе, но вот оказия, Пушкин-то писал не «молодец», а «сукин сын» — «…ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он болезненно переживал вольные или невольные огрехи в науке. А пушкиноведение было для ума и сердца его наукой очень близкой и дорогой.
Казалось, он наизусть знал не только всего Пушкина, но и Блока, Тютчева… Я мог бы назвать и других поэтов, прозаиков, драматургов и их произведения, к которым он питал особое пристрастие, но ограничусь утверждением, что эрудиции его могли бы позавидовать не только преподаватели, но и многие литературоведы.
Несмотря на поразительную память, Николай Сергеевич все в своей жизни фиксировал, брал на письменный учет. Каждый прожитый день, каждый шаг, любую покупку, книгу, журнал, интересную газетную статейку… И даже звезды над головой. Как сказал о нем один из его друзей-астрономов, искру в работе над библиографией затменных переменных звезд он раздул до пожара, до общей астрофизической библиографии звезд Вселенной, то есть взялся за такую тему, которая была по плечу разве что целому институту.
Но это уже, как Пушкин в его жизни, отдельная повесть.
О нашем соседе с полным правом можно было сказать — ходячая энциклопедия, живая память, нет — наглядная память, ибо это был человек, не только ничего не забывавший, но и никогда зря ничего не выбрасывавший. Он был человеком, вросшим в свою заставленную, уставленную, обложенную вещами комнату, как моллюск в раковину. Вы лишь вообразите, как это ничего не выбрасывать на протяжении шести десятков лет. Больше! Он берег и многие родительские вещи. Этот своеобразный museion хранил, кроме упомянутых сундуков и стола, — потемневший от времени, но все равно роскошный ампирный сервант, в котором продолжали жить в безрассудной надежде на пригодность кружевные веера, замысловатые брошки, пуговицы, сюртук с карманом под фалдой, театральный бинокль на раздвижной ручке с клеймом парижского астрономического общества «Флам Арион», полуистлевший ремень с медной бляхой, на которой рельефно выступали крылышки над двумя змейками и аббревиатура «КУ» (коммерческое училище); билеты в синематограф «Унион» и трамвайные билетики десятка образцов, включая тех времен, когда лошадиные силы катили вагончики по городу натуральным образом — с цоком и ржаньем; талоны на керосин, одежду, продукты; мирно тлели документы родителей, начиная с выписок из метрических книг Казанской епархии о их рождении, бракосочетании, а также свои, например, «Сведения о поведении и успехах ученика приготовительного класса Казанского коммерческого училища за первое полугодие 1914–1915 учебного года»; в одном ящике вместе с квитанциями от 13 декабря 1941 года о приеме от тов. Новикова Н. С теплых вещей и белья для Красной Армии, пачками бирок от одежды хранились монеты с профилями императоров и императриц, пасхальные открытки… Мое воображение особенно сильно будоражила этажерка, где покоились сувениры, выпущенные к столетию Отечественной войны 1812 года — небольшая, но увесистая металлическая статуэтка Наполеона в пороше белесой патины — руки скрещены на груди, у ног пушечное ядро; открытки с видами сражений, на каждой сбоку то часть лица, то шляпы-треуголки или шпаги, или ботфорты… Каково же было мое удивление, когда, сложенные вместе на одной плоскости, они явили взору одну большую картину с Наполеоном Бонапартом в полный рост. Почему не с Кутузовым? Странное было отношение издателей к славной для отечества дате.
Всех богатств его удивительного хранилища не перечесть и не пересказать. В тесной двадцатиметровке уживались два столетия. Хотя у него еще имелся вместительный, николаевских времен дровяник, где среди поленниц, сломанных стульев пылились в ящике неизвестно какой древности иконы, грудились в мешках звонкие люстры, подсвечники, чайники-спиртовки, посуда… Честное слово, у него любой исторический музей мог бы разжиться. Представляю себе уроки истории или литературы с экспонатами из собрания Николая Сергеевича Новикова. Скажем, идет речь о творчестве Пушкина, и тут же, вот вам — прижизненное издание его книги, посмотрите.
Но ни из музея, ни из школы к нему не шли. А он не шел к ним, потому что ему немое его окружение говорило о многом, все эти вещи были больше, чем просто вещи, они были добрыми спутниками жизни, друзьями, которых, как известно, настоящие люди ни при каких обстоятельствах не бросают и не продают. Они были ему привычны, обыденны и ценность представляли, как ему казалось, только для него одного. Лишь теперь я начинаю понимать волшебное свойство его ветхого капитала: оно овеществляло прожитые дни, которые для многих исчезают бесследно, как трамвайные билетики, брошенные в урну.
Одной из многочисленных странностей Николая Сергеевича был образ его питания. Кухней общей он не пользовался, лишь воду в эмалированных ведрах на своем бездейственном фанерном столике держал. Выглянет из двери с ковшом в длинных пальцах, зачерпнет и — у-ту-ту! — скроется. Жарил-парил у себя в комнате на электроплитке, а зимой кастрюли и сковородки перебирались на плиту печи.
Обеды себе он готовил из всевозможных концентратов. Супы из пакетов, каши из брикетов, мясо, рыба — из банок… Исключение составляли грибы, которые он по собственным грибным картам собирал в лесах вокруг обсерватории, и гостинцы из нашего сада-огорода (своего участка в саду он не имел — отказался). Да еще из отпусков, проводимых в Крыму, он привозил ящика два фруктов, большей частью винограда. Угощались на этаже все. Мы с Шаихом с особой жаждой наваливались на черный виноград с романтическим названием «Изабелла» — в приключенческих книгах, проглоченных нами в свое время невероятными порциями, многие пиратские корабли назывались почему-то именно так — «Изабелла».
Своей жизнью Николай Сергеевич перечеркивал многие общепринятые устои, внушаемые нам с детства. Нам говорили: не читай лежа, испортишь зрение, а он всю жизнь читал лежа и не знал, что такое очки. Он питался одними консервами, и никто из нас не слышал, чтобы он жаловался на желудок или нехватку витаминов. Нам — о свежем воздухе, физкультуре, а он сутками в непроветренной каморке с устойчивым духом старых книг, бумажной пыли, и работоспособность — дай бог каждому! В доме он был всех старше, а к помощи медиков и медикаментов не прибегал, тогда как и мои родители, и соседи беспрестанно охали-ахали, слонялись по больницам и зарабатывали, казалось, исключительно на лекарства.
Хотя одна неприятная штука у него была, он кашлял, чему мы не придавали значения. А врачи говорили — бронхит. Возможно, потому-то и путешествовал каждый год на юг? Нет, все же таки в Крым его тянуло другое, в первую очередь — любовь к сказочному краю. Поездки начались задолго до бронхита. Позже я узнал, что до нашей с Шаихом эры он очень сильно болел, в юности у него признали какую-то дрянь, связанную с нарушением обмена веществ. Рахит, вроде бы. В те же годы его свалило воспаление легких, из-за которого в университет он поступил на год позже сверстников. Потом его и в армию не взяли, и на фронт он, сколько б ни подавал заявлений, не попал. Я видел довоенные фотографии — Крым, друзья, какая-то миловидная девушка рядом с ним смеется в объектив, заслонившись ладошкой от солнца, а он, а он-то — тощий, как жердь. Один нос торчит. Да еще упрямая копна волос. Куда, скажите на милость, подевался с возрастом недуг? И поправился, и округлился. Не консервами же человек вылечил себя?!
Много странного было в нем.
Он, к слову сказать, не брился. И бороды не отпускал. Стриг ее маленькими выгнутыми ножницами на ощупь, не отрываясь от рукописи. К концу стрижки на щеках оставался ровный пегий газон росточком с родинку у рта, которую он панически боялся задеть. Больше ничего не боялся. Нет, еще страшился остаться без света — во тьме ни читать, ни писать, потому и держал всегда про запас с десяток лампочек и дюжину восковых свечей. А про родинку ему кто-то нагадал в детстве, что он поранит ее, изойдет кровью и умрет. Вот и не пользовался бритвами-лезвиями. А может, это всего лишь байка, оправдывавшая еще одну его странность.