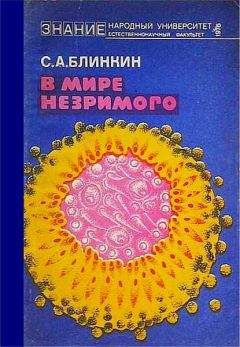Ахат Мушинский - Шейх и звездочет
— Глазеть будешь или огород поливать?
Шаих заводил стаю в переседник, приговаривая свое обычное «чи-чи-чи», когда на крыльцо вышли мать с гостем.
— Так вот же он! — воскликнул Гайнан Фазлыгалямович. — А мы ждем, волнуемся, а он — а-ля-мафо… — И без того не молочное лицо гостя теперь вовсю сияло спелым овощным наливом августовских грядок Рашиды-апы (у нее, женщины деревенской, огород был всегда лучше нашего). — Ну, до свиданья, что ли, — вскинул он руку и, словно бы напутствуя себя, промурлыкал: — Летите, голуби, летите!
Для Рашиды-апы — да, он, возможно, казался голубем. Поздним, последним, а потому и белокрылым. Вечером, когда наконец Шаих явился домой, она не бранила его, немного даже повинилась за петуха.
— Не молиться ж на него, не сегодня-завтра все равно… Покушай, вкусненько получилось.
Шаих огрызнулся.
Зная характер сына, она не стала настаивать, предстояло еще сообщить о главном, и она принялась обыденными, житейскими разговорами наводить мостки к растроенной душе сына — о погоде завела, огороде, о болезнях своих бесчисленных и о том, что давно ему штаны новые надобно купить и что копеечка трудовая достается ей ой как нелегко. Так, исподволь и возник на ее устах Гайнан.
Она настойчиво крутила одну и ту же пластинку: Гайнан-де не средней руки человек, майор, знает жизнь не понаслышке, из песка веревки вьет. И пятое, и десятое…
— И кем работает, думаешь? Завскладом в цирке!
Шаих возился с Юлькиным приемником, не перебивал, не кривил губ, и она решилась.
— Сынок, как он тебе? — И помолчав в нетерпеливом ожидании: — Понравился?
Шаих равнодушно ответил:
— Не девица я: понравился — не понравился…
— Понимаю, сынок, но все-таки?
— Пристала! Скажи прямо, чего хочешь?
Она огладила шершавыми руками передник.
— Сколько уж мы с тобой без отца! А хочется не хуже других… — Оторвала взгляд от передника. — Хочу, чтоб жил он с нами.
Шаих знал, к чему мать клонит, но все равно ее последние слова ранили его.
— Каким образом?
— Твоим новым папой.
— Этот?
— А что? Мне теперь не до Иусуфов из сказаний. Мужчина он… Я знаю — домовитый будет хозяин.
Шаих стрельнул глазами: хозяин? Но промолчал. Однако и взгляду его она спуску не дала:
— Не квартирант же!
Шаих отложил отвертку, взял пинцет.
— Что воды в рот набрал?
— А что я должен?.. Поздравляю! — Бросил пинцет, пошел из комнаты.
— Куда?
— К Николаю Сергеевичу зайду.
— Медом тебе там помазали? Часами у него, дома не сидишь. Ты ночуй там, живи!
— Придется, не мешать же молодоженам.
Мать схватила тряпку, которой только что протерла посуду, швырнула вслед. Но это она не по злости — так, чтоб последнее слово за ней осталось. Добро и худо выражались в ее поступках одинаково.
Глава третья
Именно так Николая Сергеевича и называли на Алмалы — пришелец. Не от мира сего якобы он был. Но я, но мы-то с Шаихом знали его получше, чем кто бы то ни был. Мы жили в одном доме с Николаем Сергеевичем с голопузого детства (разумеется, нашего с Шаихом голопузого детства), а кто, какой мудрец или академик может быть проницательнее ребенка? Мы, дети, юные человеки были с ним воистину единокровцами — и по крови, то есть духу, и по крову. Да и по возрасту тоже. По сути дела ведь все большие ученые — дети малые. И те и другие в постоянном движении, в постоянной борьбе за расширение своих миров. Тянут шеи, становятся на цыпочки… Горизонты, дорожки, законы, это можно, а это нельзя, придуманные взрослыми, являются для них пустыми условностями, никчемными забориками, которые они то и дело опрокидывают. Много их у нас понастроено всюду — заборов. Порой шаг шагни и достигнешь желаемого, ан нет, вырастают перед тобой городьбы всевозможные, и приходится кружить, кружить до головокружения… Николай Сергеевич сказал как-то, что коммунизм — это, когда не будет заборов.
Наш дом на Алмалы тоже, кроме фасада, был окружен разногабаритными заборами. С одной стороны даже кирпичная стенка была. Высокая, мощная. Для чего? Для красоты и представительности, очевидно. Все-таки дом был одним из самых именитых на улице, поставлен еще в девятнадцатом веке купцом Морозовым. Из красного кирпича (первый этаж) и мелкослойной кондовой сосны (второй), с причудливой террасой, покрытый чешуей осинового лемеха, который в сумрачный день холодно серебрился, а в погожий весело голубел, с величественным парадным входом для господ, с разными ангелочками по фронтону над высокими окнами в строгих наличниках, со странными выступами и заступами, весь какой-то асимметричный и затейливый, он, однако, и при беглом взгляде поражал своей цельностью, взаимоисключающие его вольности удивительным образом дополняли друг друга, и он весь, казалось, был схвачен не раствором и гвоздем, а какой-то одной вдохновенной и дерзкой мыслью.
В конце концов Морозов разорился, и дом перешел в собственность приват-доцента Императорского университета Евсеева, покинувшего Казань с семьей в восемнадцатом году. Дом национализировали. В «людских» поселились рабочие-печатники, а в господских комнатах, на втором этаже, разместилась публичная библиотека. В том же году печатников перевели в центр города, поближе к типографии. Перебралась куда-то из-за неустроенности отопления и библиотека. В мае восемнадцатого верх дома заняла семья уполномоченного продкома по Арскому кантону Сергея Андреевича Новикова, оставившего квартиру в центре рабочим-печатникам.
Тринадцатилетнему Николаю отвели отдельную комнату, в которой он прожил до наших дней. За стеной, где раньше музицировали на пианино его сестра с матерью, теперь жила тихая бездетная пара; дверь в дверь, в бывшем кабинете отца, с одним из окон на террасу — мы, семья транзитного шофера, не появлявшегося дома месяцами; в самой большой комнате, бывшей гостиной с камином редкой красоты, но не действующим уже с восемнадцатого года, — вдова пожарного, дворничиха Рашида-апа с сыном, другом моим Шаихом.
Николай Сергеевич Новиков искренне любил всех нас, сменивших в комнатах квартиры его семью — отца, мать, сестру. Своей семьей он так и не обзавелся.
На работу в загородную астрономическую обсерваторию он ездил раз в неделю, по понедельникам. К поездке готовился за несколько дней и выбирался из дому шумно, суетно, непременно что-то забывая, возвращаясь, волнуясь. «У-ту-ту!» — подолгу замыкал, размыкал и опять замыкал он игрушечный замочек на высокой двери. Еще шумнее возвращался. Снова пыхтел над замочком, опять пел «у-ту-ту», однако в нотках его голоса теперь царило ликование, его переполняли впечатления, свежая научная информация, тепло от общения с коллегами-астрономами, жажда к прерванному на целый световой день многолетнему домашнему творению.
Апогея в каждодневной домашней ученой работе он достигал только к ночи. Заглянешь к нему на огонек после одиннадцати (на нашем этаже все ложились поздно) и застанешь его в самом превосходном, деятельном, разговорчивом настроении. И полетишь с ним в межгалактические путешествия, перенесешься через века в будущее и с внеземными цивилизациями в контакт вступишь…
Как сейчас перед глазами: высоко на двух громадных сундуках обтянутая черным дерматином кушетка и на ней в горизонтальном положении Николай Сергеевич — рука вскинута к потолку, голова подбородком в грудь. Она у него всегда была так — и при ходьбе, и при выступлениях с трибуны, как у обиженного или повинного. Он даже на небо смотрел исподлобья. Когда работал над рукописями (почти всегда лежа), голову на весу держал. Как не уставал? Таким образом и читал, и ел… Грудь ему служила столом и письменным, и кухонным. Стол у него, конечно, имелся — письменный, двухтумбовый, старинный, с зеленым сукном по верху, но он до краев и в несколько этажей был заставлен кипами книг, папок, газет, картотеками размерами от коробки из-под сахара-рафинада до холодильника «Саратов».
Впрочем, таким образом у него занята была вся комната. Передвигаться в ней можно было лишь при хорошо развитом чувстве равновесия: всюду — на стульях, полу, устланном газетами заместо ковриков, на подоконниках — книги, книги, книги… Не дай бог зацепить! За каждым шагом «гостя» он следил с трепетом. Книги стеллажами подпирали потолок. И на печи громоздились. Отмени природа закон притяжения, он бы и потолок завалил. «Завалил», разумеется, не то слово. Его обширное бумажное хозяйство было не складом макулатуры. Любая маломальская брошюрка, что брошюрка! — записка в одну четвертую листка из школьной тетрадки, вырезка из газеты — все было учтено, зарегистрировано и имело свое определенное место. Вот на полу у стеллажа стопка пожелтевших от времени газет, сверху лист оберточной бумаги с надписью: «Осторожно, не прочитано!» Вот секция с толстенными книгами, надпись над ними гласит: «Сдать в библиотеку!» Пока мы еще не вечны, объясняет он, всякое может случиться, а книги библиотечные.