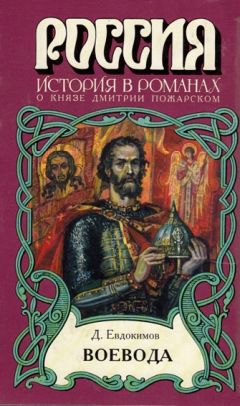Максим Кантор - МЕДЛЕННЫЕ ЧЕЛЮСТИ ДЕМОКРАТИИ
Что же касается бунта против традиций, осуществляемого одним художником, и подражания традициям, прокламируемого другим, то это, пожалуй, преувеличение. И американский Шилов, и русский Ворхол находятся от традиций весьма далеко — примерно на расстоянии ракетного залпа.
2
Существует и последний, самый важный контраргумент: Ворхол (вроде бы) делал все это нарочно, а Шилов — не нарочно. И однако по прошествии времени ответ будут держать всего лишь картины, и зрители будут глядеть в одинаково пустые глаза бая Назарбаева и актрисы Монро. Справедливости ради следует заметить, что в искусстве последних лет знакотворчество вообще более актуально. Стилистическая разница двух мастеров не так принципиальна.
Шелкография в случае Ворхола или глянцевая поверхность холста у Шилова не так уж и различны, важно скорее то, что поверхность анонимна: кисть Шилова и камера Ворхола словно бы не связаны с живой рукой, которая ведь может и ошибиться. Оба мэтра являют безошибочный, беспомарочный, но и безумно скучный метод работы, когда глазу не за что зацепиться в произведении и взгляд скользит по картине, как рука по мылу. Так уж теперь принято, извините — век высоких технологий не оставляет места сомнениям и дрожанию руки. Это Рембрандт или Сезанн могли переписать холст пять раз — теперь-то что переписывать. Однажды Сезанн охарактеризовал свой метод как «размышления с кистью в руке», в другой раз сказал так «я ищу». Но ведь теперь-то искать ничего не надо — уже все нашли.
Архаический метод Шилова (кистью по холсту) частично объясняется технической отсталостью России, однако в целом обеспечивает эффект узнаваемой анонимности, присущий сегодняшнему дню: так мы различаем телеведущих по повадкам, но не по словам. Никакой индивидуальной информации, собственной идеи, личного переживания (то есть того, что отличает образное искусство стран христианского мира) знаковая индустрия не имеет и иметь не может. Противопоставление старины новизне, прогресса — традиции, качества радикализму и прочее, то есть то, чем противоположны Шилов и Ворхол, еще не есть идея. Российский интеллигент оказался последовательным приверженцем ленинской теории двух культур. Теперешняя интерпретация звучит так: есть прогрессивное, актуальное, авангардное, и есть отживающее свой век, ретроградное. Несчастные российские мастера прекрасного вынуждены были переориентироваться в считанные годы — и пошли учиться делать кляксы вместо того чтобы рисовать пошлые олеографии. Ничего иного и в голову придти не могло: быть либо Шиловым, либо Ворхолом.
Замечательно здесь следующее. Оба эти лагеря равно удалены от той традиции, которую один якобы поддерживает, а второй якобы ниспровергает. Демократическое искусство (Шилов и Ворхол как полярные примеры) очень часто оправдывает свои новаторские приемы тем, что ему приходится разрушать канон. Однако бунт поп-арта (или мыльность Ворхола) основан не на разрушении канона, но на принципиальном отсутствии канона. Ворхол не нарочно именно так валяет дурака — он действительно органически не видит, что линия может быть прекрасна. Он этого органически не понимает, не может представить, у него такого инструмента для восприятия нет. Как дикарь не может понять, почему стариков не убивают — в то время как неразумно тратить на них пищу, — так и современный просвещенный дикарь не понимает, каким образом линия или цвет могут нечто значить сами по себе. Дикарю кажется, что надо как-то специально пошутить — выставить банки из-под супа, наплюхать кляксы, пустить ветры в музее; он не понимает, что ирония, высказанная одной линией Пикассо, может быть тысячекратно язвительнее, острее, смешнее, нежели пуканье. Но дикарь не понимает этого, его культура не знает такой линии, не понимает цвета. Только яркое, громкое, сильно пахнущее — вот его мир. Если потребуется объяснение — он скажет: так делать современно, я выражаю сегодняшний день, а то, другое, — было вчера.
И однако картина культуры всегда сложнее простой дихотомии. Нельзя быть более современным и менее современным. Современно все — Солженицын и Зюганов, соцреализм и концептуализм, нефтяные воротилы и инсталляции, постмодернизм и Шилов. Как говаривал Сальвадор Дали: «Не старайся быть современным, уж от этого-то тебе никуда не деться».
Как типичный представитель своего времени Шилов может быть включен в списки мастеров современного искусства, он постмодернист, с успехом использующий приемы соцреализма. Он заемную стилистику использует так же бойко, как представители иронического концептуализма — в чем же разница? В том, что те рисуют неискренне? А Шилов, что, искренне?! И Энди Ворхол точь-в-точь такой же — работящий, серийный, безликий. Нечего нам краснеть за наших запечных маляров — Шилов ничуть не хуже ихних новаторов. От заокеанских коллег он отличается, как продукция «Русского бистро» от «Макдональдса», то есть непринципиально.
3
Сегодня, когда все тоталитарные ценности, и живопись в том числе, уже ниспровергнуты, жанр портрета представляет крайнюю опасность для демократической эстетики. Вообще говоря, даже Шилов с Ворхолом уже немного тревожат — но их еще можно разрешить, а уж более детально вникать в портрет не рекомендуется. С одной стороны, конечно, демократия — это строй, при котором личность проявляется как никогда и нигде, а с другой — как-то она и не очень проявляется, ей спокойней пребывать спрятанной. И показывать лицо такая личность не спешит. Порой кажется, что у нее и лица-то нет. Вы много видели современных портретов? И это сегодня, когда самовыражение — наше главное устремление. Впрочем, может быть, личность выражает не свое лицо, а что-то еще. В наше дегероизированное время напоминать, что человек сделан по образу и подобию Бога, как-то неловко. Вот, например, портрет Назарбаева кисти Шилова, или изображение Мерилин Монро аэрографа Ворхола. И что же? Даже боязно докончить эту фразу — хочется думать, что это не буквальное подобие Бога.
Здесь требуется искусствоведческий анализ художественного образа, описание того, каким средством он сделан, что выражает, в чем его смысл, то есть описание процесса одухотворения материала. В этом и состоит роль искусствоведа — в том, чтобы описать превращение материального (краски, камня) в дух, объяснить, как переходят земные, бытовые подробности черт в область не-бытовую; объяснить, что художественный образ создает собственную реальность, не менее живую, чем сама жизнь; объяснить, чем рука, написанная Пикассо, отличается от руки, написанной Бэконом, почему лица Модильяни худы, а Фрейд рисует их рыхлыми, почему у героев Джакометти длинная шея, а у героев Мура — короткая. Все это не подробности анатомии, но черты художественного образа. Материальные детали разнятся, потому что художники создают разные миры — и у каждого своя природа. Такой анализ применить к Шилову или Ворхолу (или к любому из одинаковых монотонных произведений авангарда) невозможно.
Годы, в которые законотворчество потеснило художественный образ, изменили и метод анализа. Актуальной была десакрализация, то есть сведение духовного (или псевдодуховного, культового, социально ангажированного) к материальному знаку. Эти знаки существуют в нашем будничном мире, другого мира не создают. Даже если знак и использует какие-то антропоморфные черты, нет надобности разбирать, как это сделано: это сделано нарочно никак, анонимно. Знак не имеет лица.
В годы советской власти ходила шутка: «Они делают вид, что нам платят, а мы делам вид, что работаем». Применительно к ситуации в искусстве конца века ее можно перефразировать так «Они делают вид, что творят, а мы делаем вид, что это анализируем». Привычную пару «художник-искусствовед» заменила пара «концептуалист-культуролог». Про художника конца века трудно сказать, кто он: он не график, не живописец, не скульптор, но и не поэт и не философ. Точно так же понятие культуролога не поддается определению. Он не историк, не философ, не писатель, не искусствовед. Эта размытость жанров и стала жанром, отсутствие конкретного ремесла — ремеслом и отсутствие определенных взглядов — своеобразным взглядом. Господствовавший на протяжении века стиль был стилем тотальной иронии, деструкции и провокации. Этот процесс иронической деструкции есть вещь, противоположная созданию образа, — создается нечто принципиально серийное.
Соответственно, творцом мог стать каждый, присягнувший иронии, это привело к демографическому взрыву в популяции творцов, к однообразию шуток и кризису на рынке. На банальную фразу «Король голый» всегда находился ответ: «Это он нарочно» — и опять делалось смешно.
Штука в том, что ирония не может быть серийной, это девальвирует понятие смешного, деструкция не может быть поточной — это девальвирует способность к сомнению, самое существо мыслительного процесса. В результате поточной иронии, поточной деструкции — образуется некое вещество, субститут идеала, субститут мысли. Это — идеология.