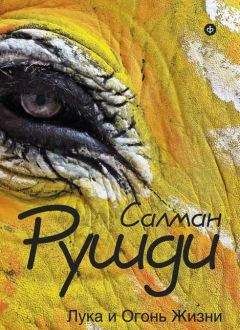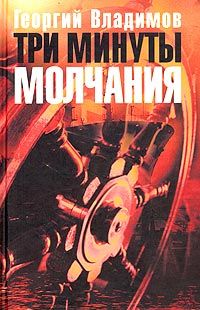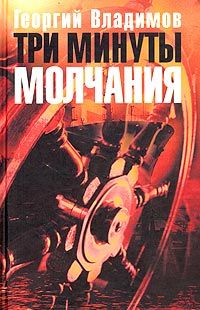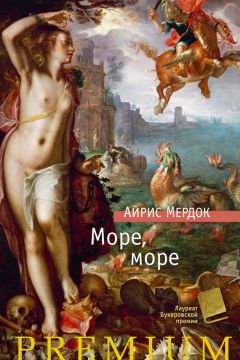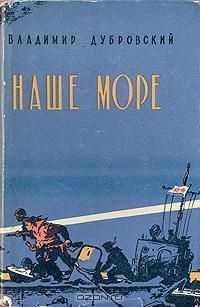Максим Кантор - Каждый пишет, что он слышит

Обзор книги Максим Кантор - Каждый пишет, что он слышит
Максим Карлович Кантор
Каждый пишет, что он слышит
А каждый слышит, как он дышит. Прав Окуджава. Как он дышит, так и пишет. Но чем дышит современная литература, что слышит современный писатель?
Лучшим русским романом последнего времени я считаю «Три минуты молчания» Георгия Владимова.
Это книга о рыбаках в Северном море. Начинается роман с изложения жизни на берегу: драки, пьянки, случайные связи. Герой подкопил деньжат, хотел было списаться на берег — но деньги украли; опять пришел наниматься в матросы. Теперь снова полгода в море, а потом пьянка на берегу. Про команду, которая сплошь из таких же матросов, написана книга.
Интересна переписка Владимова с Солженицыным по поводу романа. Солженицын начал читать — и бросил. Написал автору (цитирую по памяти): мол, я-то надеялся, ваш герой понял, что будущее России на земле. Сушу надо обустраивать, Россия не морская держава! А вы опять героя в море послали — читать неохота: зачем нам Джек Лондон.
Они друг друга не поняли, Солженицын от книги отмахнулся, а Владимов объяснить Солженицыну не сумел.
Книга как раз про сушу, на которой ничего сделать нельзя. Не получается у героев на суше: их обманывают, дурят и они спиваются. Они люди неплохие, но пронырливая жизнь на берегу пробуждает в них самое скверное. У них не получается создать семью, компанию, общество. Владимов показывает десяток биографий — все дрянные. Не устроившись на земле, люди выходят в море, и вот в море-то они — команда. Они поначалу бранятся — земное еще не отпускает их; и вдруг закон общего дела их собирает воедино. Теперь это люди высшей пробы, готовые заслонить друга в беде, отдать жизнь за товарища. Даже когда они терпят бедствие (в судне пробоина), у них хватает отваги прийти на помощь другому тонущему кораблю.
Береговая жизнь кажется в море нереальной, не идет в сравнение с морской жизнью. Но мелочное уродство берегового быта не отпускает. Чуть что, из моряков лезет земная сущность, как вата из дырявого матраса: один вынашивает план зарубить жену топором за измену, за другим какое-то темное дело, третий ненавидит семью, к которой привязан тремя детьми, и так далее. Они заговаривают о сухопутных проблемах и делаются ничтожными; берутся за снасти — и снова распрямляются. Метафора «земное — преходящее» звучит в полную силу; так устроена жизнь этих людей: от суетного — к общему делу, и обратно, в суету.
Но не так ли устроена и вся история нашего Отечества?
В данном сценарии заключается исторический цикл России: война и революция, т. е. время, когда народ обретает общее дело в беде, и бытовое неравенство в мирное время. Эта цикличность, ввергающая народ то в самую актуальную для мира историю, то выбрасывающая из мировой истории вовсе, и передана Владимовым в метафоре моря и суши. Сколько твердили про Россию, будто страна выпала из истории; однако истории XX века не существует без СССР, хотя, впрочем, это и не отменяет того факта, что жизнь в России уродлива.
Историческая судьба у русских людей есть, а вот собственной судьбы нет. Эта коллизия и описана Владимовым на примере жизни рыбаков.
То, что Солженицын потребовал от рыбаков обустройства суши, характерно для автора «Красного колеса»: он мечтал именно о прогрессивном застое — о монархии образца Алексея Михайловича, в которой рыбакам нашли бы подходящую работу. Владимов же показал пульсирующую жизнь русской истории: жизнь народа, который творит историю от тоски — как пьет водку. В экстремальных условиях эти сомнительные граждане становятся единым народом, единым коллективом, у них появляется философия общего дела — вот так делается история.
Но едва пора испытаний заканчивается, как им надо создавать стабильную жизнь, «обустраивать Россию». И тогда простые люди попадают в кабалу к жадным и подлым, поскольку плана строительства общества равных в России нет. Люди привыкли к ответственности на корабле, в лагере и в окопе, а больше нигде нет равенства. Моряки на суше (читай: люди в мирное время) обречены: приобретать и копить они не умеют. Люди злятся, когда у них забирают последнее, их обманывают закономерно, поскольку строят не общий корабль (ковчег), а частные хоромы. Люди готовы на подвиг каждый день, а подвига каждый день на суше не требуют: каждый день просто надо кланяться и ловчить, этого они не умеют.
«Сколько героев в русской литературе появилось за последние двадцать пять лет — время свободы и правды? И не вспомнишь ни одного. Сыщик Фандорин, разве что. Но он же не настоящий, картонный, из комикса. Почему из современной литературы совсем исчезли герои, тем более такие герои, каким хотелось бы подражать?»
Про такую судьбу народа написана книга. Мне представляется, что этот морской роман похож на песни Высоцкого, на книгу «Зияющие высоты» Александра Зиновьева и на поэму «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Все эти произведения про одно и то же — про безоглядный, отчаянный путь с прямой спиной. История России создается противоестественным путем — походом алкоголика в Петушки, походом на дырявом корабле в Баренцево море, отчаянной смелостью доктора философии, который решает стать Гомером. Эти книги — родственники.
«Я не боюсь вас. Смотрите, я иду на вас в полный рост», — такую фразу, достойную Сирано, говорит герой зиновьевских «Зияющих высот», персонаж по прозвищу Крикун.
И такую же фразу мог бы сказать герой Владимова, матрос Сеня Шалай. И алкоголик Веничка, идущий с прямой спиной от Москвы к Петушкам, говорит то же самое. Так говорит любой из героев Высоцкого: «Спины не гнул, прямым ходил». Эти люди похожи прямотой на статуи Джакометти — вот так и стоят, проглотив аршин; и не кланяются, потому что не умеют. Это все люди, живущие навылет, живущие наотмашь; они идут в полный рост и не боятся быть вровень с историей. У них иначе не получается.
У Пастернака есть (родственное скульптору Джакометти) определение людей и города в поэме «905 год»:
«…Так у статуй,
утративших зрячесть,
Пробуждается статность —
Он стал изваяньем труда».
Сегодня, когда город и люди стали воплощением торговли и обмена, статуи исчезают: прямота статуи олицетворяет труд, а чтобы успеть на бирже — с прямой спиной не походишь. Но на войне и в работе это нужное качество. И труженик Веничка идет в Петушки, как на смертный бой, отдает жизнь на войне с российским угодливым бытом.
Отчаянье
У меня сохранилась фотография, на которой Владимов, Зиновьев, Ерофеев сидят рядом на парковой скамейке; фотография сделана незадолго до отъезда Александра Зиновьева в эмиграцию. Фотография сперва казалась странной: пьяница Ерофеев, философ Зиновьев и прозаик Владимов — это случайная встреча. Зиновьев и Ерофеев не писатели по меркам литературных слонов: один писал «слишком много букаф», как сказали бы сегодняшние подростки, другой писал букв слишком мало; на их фоне Владимов смотрится академическим литератором. Через некоторое время я понял, что снимок уникальный; литераторы сами не подозревали, что образуют единый фронт русской словесности — сравнить это направление по определенности можно лишь с шестидесятыми годами девятнадцатого века. Авторы этого, возможно, не подозревали, но они знали калибр друг друга, и, что важнее, их объединяла особая каменная стать.
Роман «Три минуты молчания», эпопея «Зияющие высоты», поэма «Москва-Петушки» представляют особое направление русского искусства.
К этому направлению отношу песни Высоцкого и Галича, рассказы Шаламова, философию Мамардашвили, тексты Аверинцева и Гаспарова, прозу Владимира Кормера, книги Надежды Мандельштам — то есть самое страстное, что было создано между войной и перестройкой. Любопытно, что они — непрофессиональные сочинители.
Определить то, что объединяет это направление, нетрудно, но термин надо объяснить.
Помню, Кормер рассказывал, как принес свой роман «Наследство» на отзыв Александру Зиновьеву, и тот роман разругал. В рассказе была любопытная деталь: Зиновьев упрекнул Кормера в недостаточном реализме. «Смешно это слышать!» — возмущался реалист Кормер: ведь Зиновьев был писатель-любитель, из философов, что мог любитель сказать о цеховом мастерстве? Однако упрек задел: существовал помимо литературного стиля «реализм» — особый реализм поведения, который их объединял. Есть соблазн назвать это «протестным поведением», но диссидентами они не были, относились к статусному диссидентству иронически.
Эти люди были в оппозиции к вещам более значительным, нежели партийные органы или развитой социализм. «Три минуты молчания» не содержит ничего антисоветского, а Зиновьев под конец своей жизни порвал с диссидентством столь оглушительно, что обратно в ряды протестантов его уже не вернуть.