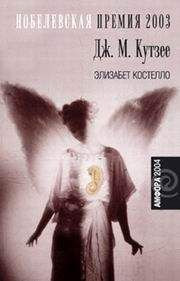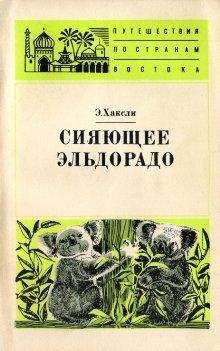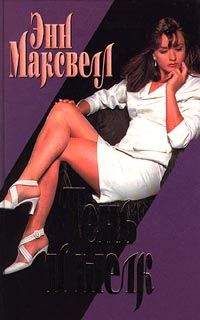Элизабет Костелло - Кутзее Джон Максвелл
Оказывается, к двадцатому веку их потомки так ничему и не научились. Они по-прежнему как ни в чем не бывало плывут навстречу пришельцам, а тех, кто приближается к их колониям, всё также приветствуют веселыми возгласами. «Хо-хо!» — хрипло выкрикивают они (точь-в-точь маленькие гномики!) и позволяют трогать себя и поглаживать глянцевитые, скользкие грудки.
В одиннадцать шлюпки доставят пассажиров обратно на корабль, а до этого времени они вольны бродить, где вздумается. Их предупредили, что на склоне горы гнездится колония альбатросов. Фотографировать можно сколько угодно, но тревожить их не следует — у них пора выращивания птенцов.
Она отделяется от остальных и вскоре оказывается высоко над берегом, на плато, густо поросшем травами. И тут совершенно неожиданно прямо перед собой она что-то замечает. Сначала это что-то кажется ей камнем — гладким грязно-белым камнем, но в следующее мгновение она понимает, что это птица, только очень крупная, таких она до сих пор не видела. Длинный загнутый клюв, широкая грудная клетка… Так это же альбатрос! Птица смотрит на нее абсолютно спокойно и даже, как ей кажется, с легкой иронией. Из-под перьев на груди, снизу, торчит еще один клювик — малая копия того, что наверху. Отпрыск менее дружелюбен, чем родитель. Он разевает клюв в беззвучном предупредительном крике. Некоторое время она и парочка птиц изучают друг друга. «До грехопадения, — проносится в ее мозгу, — именно так все и было до грехопадения. Можно не возвращаться на корабль. Можно остаться здесь и уповать на милость Господа».
У нее за спиной кто-то есть. Она оборачивается. Это русская певичка. На ней теперь темно-зеленая меховая куртка. Капюшон откинут, голова повязана шарфом.
— Это альбатрос, — тихо говорит Элизабет. — Так их называют англичане. Как они сами себя называют, я не знаю.
Женщина кивает. Большая птица созерцает их с полным спокойствием, похоже, ее нисколько не волнует, что пришельцев теперь двое.
— Эммануэль с вами?
— Нет. На борту.
Женщина отвечает с явной неохотой, но Элизабет это не смущает.
— Я знаю, вы его подруга. Я тоже, во всяком случае когда-то ею была. Можно поинтересоваться — что вы в нем нашли?
Вопрос звучит странно, можно сказать даже грубо. Это наглость — задавать столь интимный вопрос посторонней женщине, но Элизабет кажется, что на этом острове, на отрезке земли, где им обеим уже не бывать никогда, можно говорить всё и спрашивать обо всем.
— Что нашла? — повторяет женщина.
— Да. Что вас привлекает в нем? Чем он вам нравится?
Женщина пожимает плечами. Теперь Элизабет видит, что волосы у нее крашеные. Наверное, ей действительно все сорок. Наверное, дома у нее семья, где она единственный кормилец; семья, в которой, как это теперь зачастую бывает у русских, нетрудоспособная мать, пьющий и бьющий ее муж, бездельник сын и дочка, которая бреет голову и красит губы в фиолетовый цвет.
Да, эта женщина недурно поет, но скоро, возможно очень скоро, покатится вниз. Будет для иностранцев бренчать на балалайке, петь русскую пошлятину и собирать мелочь.
— Он — щедрый. Вы русский знаете? Нет?
Элизабет отрицательно качает головой.
— Дойч?
— Немного.
— Ег ist freigebig. Ein guter Mann.
Freigebig, что значит «щедрый», она выговаривает типично по-русски, с нажимом на g. Выходит, Эммануэль щедрый? Ей это определение ни о чем не говорит. Во всяком случае она бы его не употребила. Она бы скорее назвала Эгуду человеком широких жестов.
— Aber kaum zu vertrauen, — отвечает Элизабет на языке, на котором не говорила тысячу лет.
Не на этом ли языке Эгуду и русская обменивались репликами ночью в постели? На немецком языке — языке власти в новой Европе? Kaum zu vertrauen, что значит «верится с трудом».
Женщина снова пожимает плечами.
— Die Zeit ist immer kurz. Man kann nicht alles haben.[4] — говорит она и после короткой паузы добавляет: — Auch die Stimme. Sie macht, dass man… — Она ищет нужное слово: — …schaudert.
Schaudern значит «дрожать, трепетать». Голос, от которого все внутри дрожит. Возможно, так оно и бывает, если тесно прижаться друг к другу. У обеих на губах одновременно мелькает тень улыбки. Что до птицы, то она явно утрачивает к ним всякий интерес. Видимо, успела уже привыкнуть, однако птенец по-прежнему взирает на них с подозрением.
Неужели она ревнует?! Невероятно, не может быть! И все-таки… Все-таки тяжело примириться с тем, что ты уже вне игры. Обидно, как в детстве, когда тебя отсылают спать, меж тем как взрослые еще веселятся.
Да, голос… Ей вспоминается Куала-Лумпур, когда она, еще совсем молодая — или почти совсем молодая, — провела три ночи подряд в постели с тоже в ту пору совсем молодым Эммануэлем Эгуду.
«Ну-ка, изустный поэт, — дразняще прошептала она тогда, — покажи мне, на что способны твои уста». И он показал: он распластал ее на постели, накрыл ее тело своим, приложил губы к ее ушам, приоткрыл раковины слуха и наполнил ее своим дыханием.
3
Жизнь животных
Сюжет первый: философы и животные
Ее самолет приземлился. Джон ожидает ее на терминале, у выхода с номером ее рейса. С тех пор как он видел мать, прошло два года, и ему с трудом удается скрыть свое потрясение — так она постарела. Волосы, в которых последний раз только проглядывала седина, побелели совсем, плечи поникли, кожа обвисла. Бурное проявление чувств у них не в обычае. Мимолетное объятие, несколько негромко произнесенных слов — и вот уже они вместе с другими пассажирами молча проходят в багажный зал, забирают ее чемодан и садятся в машину. Ехать им предстоит полтора часа.
— Долгий у тебя был перелет, — говорит он. — Устала, наверное.
— Глаза закрываются, — отвечает она и действительно какое-то время дремлет, привалившись головой к стеклу.
В шесть, когда уже начинает смеркаться, они подъезжают к его дому в пригороде Уолтхэма. Его жена Норма и дети встречают их на ступеньках. Демонстрируя радость, что стоит ей немалых усилий, Норма широко раскрывает объятия и восклицает: «Элизабет, наконец-то!» Женщины обнимаются. Дети, как и полагается хорошо воспитанным детям, следуют примеру матери, хотя и не столь демонстративно.
Во время своего трехдневного визита в Эпплтон-колледж, куда ее пригласили как знаменитую писательницу, Элизабет Костелло будет жить у них. Джону эти три дня особой радости не сулят: Норма и его мать плохо ладят друг с другом. Было бы гораздо спокойнее, если бы она остановилась в гостинице, но у него не хватило духу предложить это ей.
Неприятности начинаются почти тотчас же. Норма приготовила легкий ужин. Элизабет сразу замечает, что на столе всего три прибора.
— Разве дети будут есть не с нами? — спрашивает она.
— Нет, — отвечает Норма, — они ужинают у себя в детской.
— Почему?
Могла бы и не спрашивать, ответ ей известен заранее: дети будут есть отдельно, потому что Элизабет не терпит, когда подают на стол мясное, а Норма не желает менять детское меню из-за того, что она называет «излишней чувствительностью его мамочки».
— Почему? — упрямо спрашивает Элизабет второй раз.
Норма бросает на него яростный взгляд.
— У детей сегодня цыплята на ужин, мама, — со вздохом произносит он. — Это единственная причина. Другой нет.
— А-а. Понятно.
Мать пригласили в Эпплтон-колледж, где ее сын занимает должность старшего преподавателя физики и астрономии, чтобы она прочла открытую лекцию и встретилась со студентами-филологами.
Поскольку Костелло — это девичья фамилия Элизабет, он не видел никаких причин объявлять во всеуслышание о том, кем она ему приходится, и в то время, когда ей посылали приглашение, никто не знал, что знаменитую писательницу Элизабет Костелло и одного из преподавателей колледжа связывают родственные узы. Если бы это от него зависело, то Джон предпочел бы, чтобы подобное положение дел сохранилось.
Основываясь на известности Элизабет Костелло как романиста, этой седовласой, рыхлой даме было предложено самой определить тему своего выступления. Она же предпочла прочесть лекцию не о себе и своем творчестве, чего, вероятно, ждали от нее спонсоры, а снова оседлать своего конька и посвятить лекцию животным.